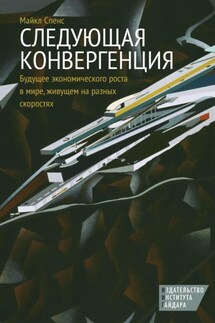Следующая конвергенция. Будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях - страница 34
Существует параллельный процесс накопления нематериальных активов и способностей. Эти нематериальные, неосязаемые активы намного труднее измерить и документировать. Но это обстоятельство не делает их менее важными. Эти нематериальные активы можно представить как накопление знаний, укоренившихся не просто в народе, но и в институтах и процессах и в способах их взаимодействия. Предстоит еще многое узнать о том, как приобретаются такие нематериальные активы, и о каналах их получения извне и их усвоения. Процесс обучения в течение работы и экспериментирования, несомненно, является частью передачи таких знаний и их усвоения. То же следует сказать и о контактах с людьми со стороны, образовании, прямых иностранных инвестициях и, возможно, много еще о чем.
Когда в конце 1970-х годов Дэн Сяопин и группа реформаторов в Китае решили изменить направление движения страны, они сделали две вещи. Во-первых, они позволили рыночному механизму работать в аграрном секторе. Это был великолепный ход. В сельском хозяйстве было занято большинство китайцев (82 % населения страны). Разрешение продавать на открытом рынке любые излишки продукции, какие оставались после выполнения плановых заданий, привело к немедленному и очень значительному скачку в объемах производства и в доходах. Цены стали расти, и жители городов зароптали. Но они составляли всего 18 % населения страны, а сельские жители по численности превосходили горожан в 4 раза. Рыночные стимулы на микроэкономическом уровне – мощное орудие. Скачок цен случился бы, даже если бы крестьяне поначалу сохраняли только прибыль, полученную от продажи избытка продукции, остающегося после выполнения прежних заданий. Продукция, произведенная для выполнения этих заданий, по-прежнему принадлежала государству, которое при старом централизованном планировании взамен гарантировало минимальный доход и доступность услуг.
Вторая реформа была глубоко прозорливой. Дэн Сяопин понимал, что ни он, ни его сподвижники не знали, как управлять рыночной экономикой: у них не было ни опыта, ни концепций. Он обратился за помощью во Всемирный банк. Точнее, он попросил Роберта Макнамару, который был тогда президентом Всемирного банка, приехать в Китай, чтобы помочь стране с переходом к социалистической рыночной экономике. До того Всемирный банк вообще не имел никаких дел с Китаем. Дэн Сяопин просил не о финансовом капитале для инвестиций в реальные активы, хотя и вел переговоры об этом с одним из банков. Скорее, он просил помощи в получении практических знаний, которых, как он интуитивно понимал, им так не хватало. Так во Вемирном банке появилась небольшая группа людей, которые, действуя совместно с китайскими коллегами, взялись за ускорение передачи знаний о рыночной экономике. Они собирали ученых и опытных политиков со всего мира для того, чтобы эти люди читали лекции о том, как работает рыночная экономика и какую политику следует проводить. Некоторые из этих лекций были прочитаны на судах, плававших по реке Янцзы. Среди экспертов, читавших такие лекции, были Янош Корнаи, покойный Джеймс Тобин и другие. Темой лекции Тобина было управление спросом в экономике, что было совершенно новой и загадочной идеей в экономике центрального планирования.
Дэн Сяопин понимал, что главной задачей развития и роста было обучение на всех уровнях, в частном секторе и в правительстве. Эта идея определила тот подход к реформам, росту и развитию, который просуществовал в Китае в течение 30 лет. Китай был и остается прежде всего обществом учащихся. Люди, приехавшие в Китай с Запада и имеющие ограниченный контакт со страной, не понимают этого. Жителям Запада свойственно думать, что китайское общество с его столь отличной от западной политической системой и ограниченной свободой печати закрыто и изолировано от мира. Это невероятно далеко от истины.