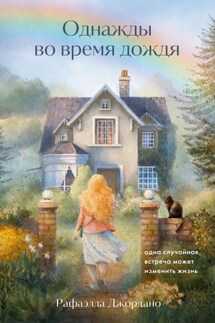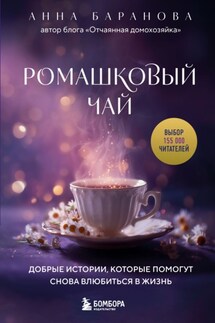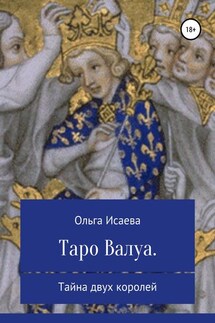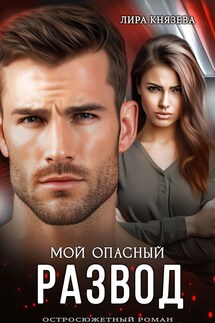Случай Ландрю в свете психоанализа - страница 7
Реальное не есть реальность, это ее модификация, ее субъективное воспроизведение. Оно есть интерпретация смысла жизни, всего того, что каждый субъект узнал через свои первые ощущения, через первые слова и первые взгляды, которые сопровождали его приход в мир, туда, где он постиг сокровенный смысл жизни, превратившийся для него в радость или боль, туда, где через связь с родителями ему было передано то, что приводит к любви и желанию, к партнеру, и однажды, когда придет срок, к материнству или отцовству. Связь с Другим, связь, которая приобщает к культуре, устанавливается в этом сплетении первых идентификаций, однако надо знать, что иногда этого связывания не происходит. Как раз это и случается при психозе.
В психозе субъект находится в социальной связи, но особым образом – странным, хрупким, трудным для понимания, необычным в некотором роде. Но каково бы ни было место, которое занимает психотический субъект в этой связи – будь оно более прочное, более изолированное, более свободное, более опасное, – этот субъект не может быть освобожден от связи с Другим, даже когда он освободится от нее в результате перехода к акту. Переход к акту нельзя понять и интерпретировать вне зависимости от субъекта, привязанного к своему семейному, культурному и социальному контексту. Никакой субъект не может быть исключен из человеческого сообщества. Наше исследование покажет, как Ландрю опирался именно на свое время, и как преступления, которые он совершил, несут на себе отпечаток той сумасшедшей эпохи. Кроме того, случай Ландрю открывает путь к пониманию двух других известных нам случаев. Мы пересмотрим дело Пьера Ривьера, хорошо известное убийство членов семьи XIX века, а затем дело Донато Биланчиа, современного итальянского серийного убийцы, которого считают «случайным убийцей» и который сейчас находится в тюрьме.
Такой подход к реальному в его отношениях с субъектом изменяет понятие ответственности, но не аннулирует ее. Если характеристику реального наложить на субъекта как ограничение, его ответ на это ограничение останется в некотором роде присущим только ему, то есть индивидуальным, личностным, неструктурированным. И в этом ответе обнажается отношение субъекта к реальности его жизни и к реальному его преступлений. Степень ответственности соразмерна этому соотношению. Это то, к чему мы приходим в заключении, посвященном «колебаниям» ответственности в понятиях уголовного права, так как этот момент, как нам кажется, ведет к началу диалога между психиатрией, ориентированной на психоанализ, и правосудием.
Преступление и отсутствие мотивации
Преступление всегда рассматривается людьми как загадка. Как человек может избавиться от связи с Другим, вплоть до желания его исчезновения, то есть окончательно и бесповоротно? Даже сегодня этот вопрос остается открытым, и пересматривать его – значит исключить преступление и преступника из человеческого сообщества. Предполагая, что чаще всего в основе преступности лежит абсолютное Зло, неопределенное, поскольку неопределяемое, и поэтому о нем ничего не известно, уделяем ли мы достаточно внимания самим жертвам? Об этом говорят семьи, когда они хотят восстановить ход этих трагедий и понять сокровенные причины таких страшных деяний. Не для того ли они интересуются этими фактами, чтобы найти нечто другое, кроме быстрого и простого генетического объяснения? Не потому ли общество, используя средства массовой информации, живо интересуется убийствами, мотивацию которых оно не понимает? Когда человек убивает из ревности, страсти, мести, подлости или интереса, есть смутная иллюзия понимания, благодаря тому что его мотивы прочитываются на уровне сознания. Когда человек убивает без явной мотивации, но в состоянии кризиса, ярости, бешенства, это придает смысл его действию и приписывается приступу безумия. Хотя никогда не известно, чем маскируется безумие, узнаваемо лишь безумное поведение.