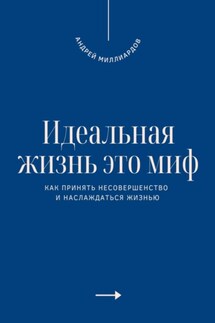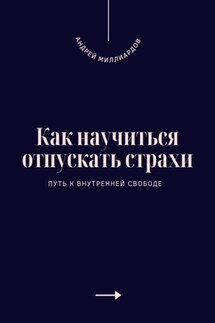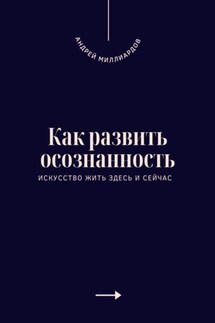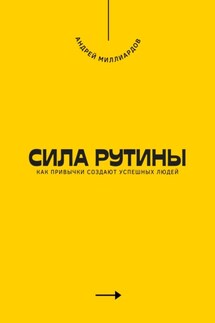Смелость быть собой. Как перестать притворяться - страница 4
Самое парадоксальное в страхе быть отвергнутым – это то, что, прячась за масками, мы как раз и отвергаем себя. Мы становимся своими же цензорами. Мы не даём себе права быть такими, какие мы есть. Мы говорим себе: «Ты недостаточно хорош», «ты не достоин», «ты неинтересный», «ты странный», «ты слишком слабый, слишком эмоциональный, слишком шумный, слишком чувствительный». Эти внутренние голоса – продолжение чужих голосов, которые когда-то звучали во вне, но потом перекочевали внутрь. И теперь мы сами себя пугаем, стыдим, обесцениваем. Это и есть самоотвержение – самая болезненная форма отвержения, потому что она исходит от нас самих.
Но есть и другая возможность. Можно стать своим союзником. Можно начать диалог с собой – не с критиком, а с другом. Можно позволить себе быть несовершенным. Можно научиться принимать свои чувства, даже если они пугают. Можно поддерживать себя, когда страшно. Это не значит, что страх исчезнет. Но он перестанет управлять жизнью. Он станет просто одной из эмоций, которую можно прожить, а не судьбоносным решением.
Принятие себя – это не нарциссизм, не эгоизм, не отказ от развития. Это признание своей ценности, даже если ты несовершенен. Это любовь, не основанная на условиях. Это уважение к себе как к живому существу с чувствами, потребностями, ошибками и достоинствами. Это зрелость, которая говорит: «Я не идеален, но я – я. И этого достаточно».
Каждый шаг к подлинности – это шаг против страха быть отвергнутым. И каждый такой шаг делает нас ближе к себе. Ближе к жизни, которая наполнена не одобрением, а смыслом. Не иллюзиями, а связью. Не ролями, а присутствием. Мы можем жить так. Мы можем выбрать себя. Даже если это пугает. Особенно если это пугает. Потому что за страхом быть отвергнутым всегда стоит возможность быть принятым – по-настоящему. Начать это можно прямо сейчас. С простого: я позволяю себе быть собой.
Глава 3. Социальные сценарии: кто пишет нашу жизнь
С самого раннего детства человек оказывается внутри множества невидимых, но очень мощных сценариев, определяющих то, как он будет жить, во что он будет верить, чего стремиться достичь и каким образом оценивать собственную ценность. Эти сценарии передаются не через прямые указания, а через обыденные фразы, жесты, правила, через модели поведения, которые ребёнок наблюдает вокруг себя. И постепенно, как вода, проникающая в пористую поверхность, эти установки начинают заполнять внутреннее пространство личности, формируя систему координат, по которой она учится ориентироваться.
Семья, в которой мы рождаемся, – это первая сцена, на которой разворачивается спектакль под названием «жизнь». В ней уже идут репетиции, уже звучат заученные фразы, уже есть роли, распределённые между членами этого маленького сообщества. Кто-то является вечным спасателем, кто-то – жертвой, кто-то – источником проблем, кто-то – гордостью рода. И ребёнок интуитивно старается понять, какое место он может занять, чтобы быть замеченным, любимым, нужным. Иногда это роль тихого, послушного, незаметного. Иногда – роль шумного, смешного, привлекающего внимание. Иногда – роль надёжного, того, кто не подводит. И очень редко – роль настоящего.
В этих ранних взаимодействиях формируются наши первые убеждения: кто я, на что я имею право, что от меня ждут, чего мне нельзя. Эти убеждения могут быть поддерживающими, но чаще – ограничивающими. Например, если родители говорили: «Ты должен быть лучшим», это формирует установку: моя ценность зависит от результата. Если звучало: «Не высовывайся, не лезь со своими идеями», формируется сценарий: лучше молчать, чтобы не быть отвергнутым. Если часто повторяли: «Мы в нашей семье всегда жертвуем собой», ребёнок может вырасти с верой, что заботиться о себе – это эгоизм. Эти послания не всегда произносятся напрямую. Часто они передаются через поведение, тон, контекст. Но их сила от этого не становится меньше.