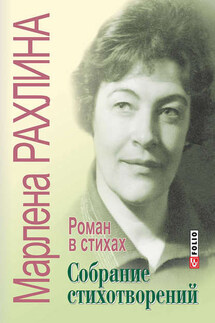Собрание стихотворений. Роман в стихах (сборник) - страница 5
За этим стремление оградить внутренний мир от доминирования в нем темных, негативных, вносящих смятение переживаний, вывести их в соответствующую им часть шкалы эмоций, придать им статус фона, периферии, противовеса, но не доминанты в мировосприятии, в переживании бытия. Во внутреннем мире, в поэтической экзистенции в рамках данной традиции должны доминировать ясность, чистота, просветленность, свобода, вдохновение. Способность так переживать бытие, таким видеть мир – своего рода чудо.
Сама жизнь воспринимается как чудо. И когда желанен и мил этот самый мир, между тюрьмой и войной, такое отношение к нему – тоже чудо. И чудо, что есть в этом мире любовь и радость – не только для несмышленышей, но и для тех, кто все ведает.
Нет, о скорби в этой традиции не забывают, ее значимость имеют в виду, но в поэтическом мире она не играет главной роли, она преодолевается, что и дает особую яркость и остроту переживанию прекрасного и возвышенного. В поэтическом мире такого типа доминирует катарсис – результат развертывания трагического конфликта, сама же трагическая коллизия главным образом подразумевается, в фокусе внимания не присутствует.
Очевидно, в свои 19 лет М. Рахлина интуитивно нащупала «сродную ей» традицию, как будто задала себе программу, где было, так сказать, предусмотрено, каким должен быть внутренний мир самого поэта, каким должен быть его поэтический мир.
Перипетии личной судьбы М. Рахлиной в течение длительного времени шли вразрез с этой программой, но поэт не отказывается от этой главной направленности своей поэтической экзистенции, ведет диалог с жесткой и жестокой реальностью таким образом, чтобы не дать ей подавить себя. В противостоянии этом поэту удалось устоять, выстоять, преодолеть все, препятствующее реализации избранной экзистенции. Это особенно очевидно в лирике последних лет.
«На склоне лет счастливая хожу», – написала М. Рахлина уже в новом веке, в своей новой жизни, за чертою самых тяжких своих утрат. В эти годы она не раз писала о счастье. И это были не просто слова. Таким было в реальности ее самоощущение, переживание ею своего бытия.
Как поэт она была награждена «каким-то вечным детством». Проявлялось это у нее в последние годы так: к ней как будто вернулась детская наивная убежденность, ясная, ничем не замутненная вера, что весь мир создан для того, чтобы одарить ее всей полнотой радости и счастья, чтоб наполнить ее душу ликующим чувством причастности к чуду существования, чтоб приобщить ее к дивному причастию из полной чаши бытия.
«Счастье – это дар», – написала в послесловии к одной из последних ее книг И. Захарова, имея в виду, что способность быть и чувствовать себя счастливой, создавать и утверждать свое счастье, сохранять и укреплять чувство счастья не благодаря, а вопреки обстоятельствам, действительно, редкий дар. Это верно. Только М. Рахлина идет в своем самоосмыслении дальше: