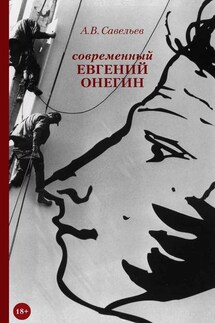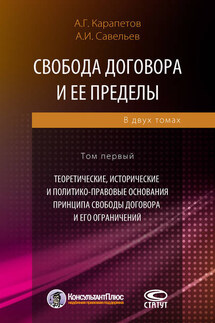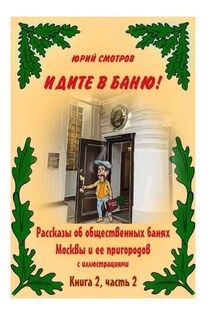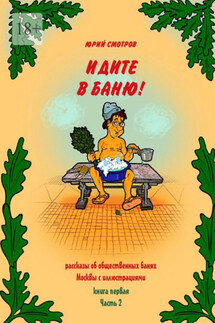Современный Евгений Онегин - страница 31
Привожу далее в качестве примеров некоторые другие достаточно красноречивые заголовки публиковавшихся статей: «Процесс о миллионах, или исповедь советского миллионера» (№ 9, с. 12); «Митрополит выступает в партшколе» (№ 11, с.14); «Крымские татары жаждут исхода» (№ 15, с. 13); «Ленинград: милиционеры выдвигают требования» (№ 17, с. 2); «Молитва на улице Горького» (№ 24, с. 2); «Увольнение в бомжи. (Где жить офицеру после службы Родине)» (№ 25, с. 15); «Требуем журналиста и попа. Бунт в колонии общего режима» (№ 27, с. 15), «Перестройка ОВД и НАТО. Готовы ли участники Организации Варшавского договора к реализации своего предложения о роспуске военных организаций двух блоков» (№ 27, с. 7); «Социалистическая ферма в штате Огайо» (№ 28, с. 6); «Дмитрий Язов: гласность укрепляет безопасность» (№ 29, с. 11); «Минкульт – минимум культуры» (№ 29, с. 13); «Академик Аганбегян в роли предпринимателя» (№ 30, с. 7); «Правительство Коми блокирует указ. Впервые автономная республика защищает кооперативы от подзаконного акта союзной республики» (№ 31, с. 10); «Самый умный среди дураков» (№ 33, с. 14); «Активная свинина» (№ 36, с. 2); «Американцы на Лубянке» (№ 37, с. 2); «Какой же строй мы построили» (№ 37, с. 8–9); «КГБ – ЦРУ: вместе против терроризма» (№ 41, с. 5); «Нереабилитированный народный депутат» (№ 43, с. 5); «Пришельцы из космоса – гости Воронежа» (№ 43, с. 10); «Неформалы в армии» (№ 44, с. 2); «Бездомная милиция» (№ 44, с. 14); «Нужна ли нам карточная система?» (№ 45, с. 4); «Московский саботаж» (№ 45, с. 5); «Хронология абсурда» (№ 46, с. 15).
Перечисление публиковавшихся статей с абсурдистской проблематикой можно было бы продолжать и далее, но полагаю, что и указанных наименований вполне достаточно для понимания происходившего. Добавлю, что публиковать заметки в «перестроечной» прессе в то время мог практически кто угодно, затрагивая при этом какие угодно по сложности проблемы[86]. Перечитывая недавно все эти заметки, я вновь вспоминал растерянные и порой испуганные лица москвичей, не ожидавших столь беззастенчиво-наглого отношения к себе со стороны властей, а также телевизионную фигурку улыбающегося М.С. Горбачева, уверяющего, что «процесс пошел», и пытающегося управлять всем созданным в стране хаосом и абсурдом. Именно поэтому, травестируя оригинал пушкинского текста, я очень старался донести до читателей то чувство реальности абсурда, которое было доминирующим в моем сознании в те годы. Думаю, что в пародии оно будет выглядеть и уместным и привлекательным.
Интертекстуальность – еще один наиважнейший принцип синтеза пародии, на который я хотел бы обратить внимание читателей. Явление это типично для многих произведений Пушкина, а интертекстуальность всего текста пушкинского произведения представляется теперь настолько очевидной, что ее сущностную характеристику можно встретить даже на страницах учебных пособий по литературе. Так, литературовед А.М. Гуревич в обзоре, посвященном сюжету пушкинского романа в стихах, отмечает: «Мы не раз уже говорили, что мир пушкинского романа не замкнут в себе, что границы его прозрачны и проницаемы для мира реального, что реальное и вымышленное в “Онегине” постоянно смешиваются, легко и незаметно переходят одно в другое.
Теперь мы можем добавить, что художественный мир романа открыт и для “чужих” произведений – созданий других авторов, которые тоже как бы входят в его сюжет, расширяют и раздвигают его пределы. И не потому только, что каждый из центральных персонажей “Онегина” выступает в роли творца своего романа, строит свою жизнь и судьбу по образцу любимых литературных героев, по законам художественной реальности.