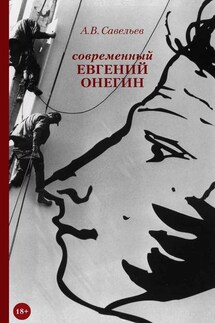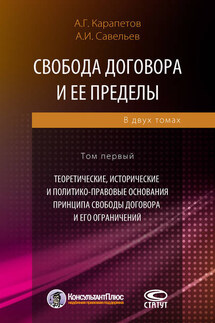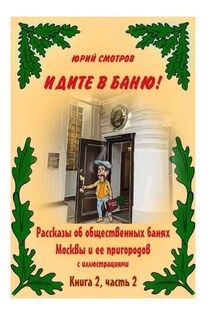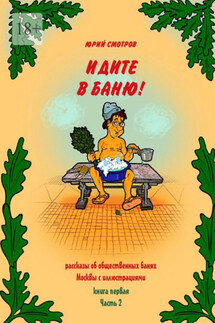Современный Евгений Онегин - страница 30
Синтез
Итак, мой анализ был в основном завершен. Работа оказалась довольно тяжелой и очень кропотливой, а вдохновение, если оно и оказывало влияние, присутствовало при этом в количественном отношении не более 3–5 %. Но я был доволен. Мысленно я поздравил себя с созданием принципиальной схемы или своеобразной «академической заготовки» последующего творческого процесса. Все было выверено и подтверждено многочисленными примерами. Какими же принципами я должен был руководствоваться в процессе творческой травестии текста пушкинского произведения?
Кратко всю принципиальную схему последующих действий можно изложить так:
Цель осуществляемой травестии – создание литературной пародии по тексту «Евгения Онегина» с соблюдением следующих основных условий:
Исторический контекст создаваемой пародии должен существенно отличаться от исторического контекста травестируемого оригинала.
Образное и лингвистическое содержание создаваемого произведения должно в максимальной степени отличаться от содержания травестируемого оригинала.
Использование новой лексики, а также факты истории и быта должны разъясняться читателям в комментарии.
Создаваемая пародия не должна ни рассматриваться, ни восприниматься как разновидность идеологической или литературной критики либо полемики.
Основным методологическим приемом создания пародии должен быть прием лингвистической игры, проводимой в обстановке максимальной интертекстуальности.
Специфическая, но важная цель создаваемой пародии – демонстрация реального абсурдизма, проявлявшегося в ходе горбачевской перестройки.
К этому последнему пункту своей принципиальной схемы я должен сделать необходимое дополнение – комментарий:
Весь «перестроечный» период я помню довольно отчетливо и, можно сказать, даже детально, видимо, потому, что вел в это время подробный дневник. Положив руку на сердце, могу заверить читателей в том, что абсурд пронизывал ход горбачевской перестройки фронтально и по всем возможным и невозможным направлениям. В дневнике, который я вел в те годы, сохранилось немало записей, свидетельствующих о том, что многие факты действительности – начиная от анекдотического приземления самолета немецкого пилота-любителя Матиаса Руста на Красной площади в мае 1987 г. и кончая угрожающе-бессмысленным грохотом танковых гусениц по московским мостовым в августе 1991 г. – воспринимались мной как образцы полнейшего абсурда. Но если к этим дневниковым записям (слишком пространным, чтобы цитировать их здесь) можно предъявить претензии в субъективности, то к советской прессе тех лет такие претензии предъявлять трудно. Уникальность советской «перестроечной» прессы заключалась в том, что она выглядела одновременно и сверхобъективной и сверхабсурдной.
У меня сохранилась подшивка одной из наиболее популярных «перестроечных» газет того времени – подшивка «Московских новостей» за 1989 г., и, просматривая ее недавно, я поразился тому, насколько часто присутствует абсурдистская ситуация или тематика на страницах ее выпусков. Вот, к примеру, один из первых ее номеров 1989 г. – № 7. В нем помещена большая статья американского политолога Д.К. Гэлбрейта о конвергенции – «Новая реальность. Капитализм и коммунизм в переходный период» (с. 6). Эта статья соседствует с заметкой «История с историей», в которой историк-сталинист А. Филимонов ратует за достоверность и «научный характер» фактов, изложенных им в диссертации, защищенной в 1953 г., – «И.В. Сталин – организатор и руководитель печати бакинских большевиков (1907–1910 гг.)» (с. 4). Такое в подвергаемой еще цензуре советской прессе стало возможным только при Горбачеве.