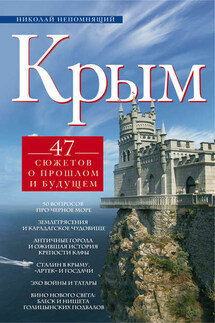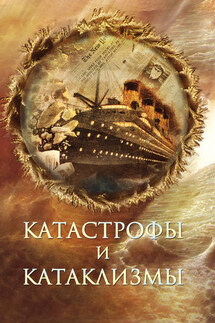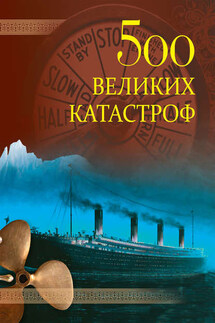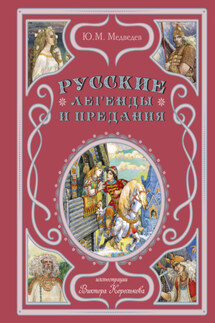СССР. Зловещие тайны великой эпохи - страница 37
На следующий день в военный городок аэродрома снова приехали Ворошилов и Гамарник. Они осмотрели заканчивающееся строительство типового жилого дома для летно-технического состава. Там я сумел сделать еще два снимка, использовав все отпущенные мне двенадцать фотопластинок. Ворошилов дал какие-то указания сопровождавшим его людям, затем сел в машину и уехал.
Теперь предстояли переживания и волнения не меньшие, чем при фотографировании. Получится ли что-нибудь в результате «таинства» химико-фотографической обработки в темноте заснятых фотопластинок? Такие переживания испытывают не только фотолюбители, но и опытные фотографы. На этот раз, слава богу, негативы получились неплохие, а позитивная фотопечать с нормальных негативов одно удовольствие. Эта операция вызывает обычно положительные эмоции. Приятно наблюдать еще в проявителе, как на фотобумаге появляются облики людей, так схожие с теми людьми, которых видел и фотографировал накануне.
С десяти негативов, оказавшихся наиболее качественными, сделал по три отпечатка, как мне было приказано (тогда все было очень строго!), фотографии и негативы отдал начальнику политотдела.
Признаюсь сегодня (дело прошлое), желая сохранить на всю жизнь память о встрече с «любимыми маршалами» и высшим комсоставом армии, решил отпечатать себе несколько фотографий. Хранил их в личном чемоданчике, не предполагая о надвигающихся трагических событиях.
Еще в начале 1937 года я оказался в Воронеже, будучи направлен в 18-ю дальнеразведовательную авиаэскадрилью как фотограмметрист. Обслуживал фотооборудование самолетов дальней аэрофоторазведки типа Р-6.
Небольшой штатный состав эскадрильи оказался дружным коллективом, где взаимоотношения между командирами и просто красноармейцами были очень простыми и деловыми. Большинство летчиков, окончивших летное училище в Энгельсе, были из немцев Поволжья: Редер, Гесс, Бертман – их фамилии мне запомнились. Имена – близкие к русским. Остальные члены экипажей разных национальностей. Прямой и непосредственный контакт имел прежде всего со штурманами. Вместе с ними проверял перед вылетом работу фототехники, сообщал количество заряженной фотопленки, особенности данного аэрофотоаппарата.
Близкие отношения у меня сложились со штурманом старшим лейтенантом Максимом Лахманом. Наши отношения стали дружескими, и однажды я рассказал ему о том, что мне посчастливилось фотографировать высший комсостав РККА, показал ему фотографии. Он был очень рад, увидев на фотографиях маршала Тухачевского. «Эти подземные ангары, на фоне которых снят высший комсостав армии, – говорил мне штурман Лахман, – это только часть разработанного маршалом Тухачевским плана модернизации Красной армии». В то время я был только старший лейтенант, однако мне было ясно, что Тухачевский, в отличие от Ворошилова-кавалериста, имеет чрезвычайно оригинальный и новый взгляд на будущую войну и армию. Даже авиация испытывала на себе влияние его идей.
Уже после лекции Крылов в домашней обстановке рассказал и другие подробности, характерные для 30-х годов:
– Эти фотографии подземного аэродрома я никому больше не показывал. Вспомнил о них, только когда июньским утром того же 1937 года нас собрали на митинг у штаба авиабригады. Начальник политотдела бригады, открыв митинг, зачитал сообщение из Наркомата обороны о раскрытии «антисоветско-троцкистской военной организации», возглавляемой якобы «бывшим маршалом» Тухачевским, и куда будто бы входили высшие офицеры Якир, Уборевич, Корк и другие. Они все обвинялись в шпионаже и «подрыве мощи РККА». Было высказано предположение о возможности существования и в нашей бригаде «скрытого шпионского гнезда». Выступившие на митинге двое военных комиссаров клеймили позором «предателей», требовали сурового наказания «изменникам Родины».