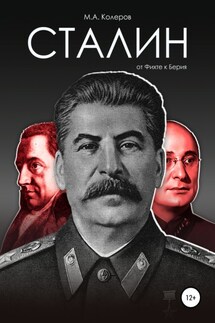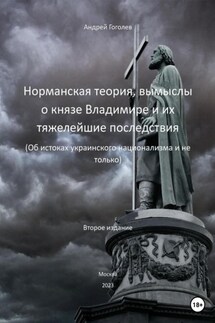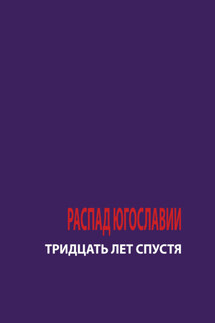Сталин: от Фихте к Берия - страница 52
Точно в дни прихода Гитлера к власти в Германии московское партийное издательство выпустило в свет популярную брошюру, которая прямо ставила себе вопросы о том, что случилось с проектом мировой революции в СССР. Можно строить убедительные предположения о том, что послужило непосредственным толчком к составлению этого текста тогда, когда идеология «строительства социализма в одной стране» давно уже стала единственной официальной, искать внешние поводы, но важно увидеть, что сама постановка вопроса в 1933 году никому ещё не казалась искусственной. Видимо, потому, что в этом пропагандистском продукте, повсюду пронизанном обширным цитатами из сочинений Сталина, их подбор и толкование уже были подчинены «национализации» мировой революции, её подчинения интересам СССР. Брошюра гласила, в частности, что ближе всего к мировой революции, начатой в России, стоят Испания и Китай, а за ними следуют Германия и Польша. И в такой конфигурации особо звучала логика, которая вырастала в доктрину: «Октябрьская революция является началом и составной частью мировой социалистической революции… мировую социалистическую революцию нужно рассматривать как целую историческую эпоху. Свержение господства капиталистов произойдёт в отдельных капиталистических странах или в группах стран разновременно». А особые внутренние предпосылки России к тому, чтобы стать первой в этому ряду, со ссылкой на книгу Сталина «Вопросы ленинизма» (1924) брошюра находила в том, что рисовало ресурсы и размер России, служащие гарантами её самодостаточности: Советская власть «имела в своём распоряжении огромные пространства молодого государства, где она могла свободно маневрировать, отступать, когда этого требовала обстановка, передохнуть, собраться с силами и пр… Октябрьская революция могла рассчитывать в своей борьбе с контрреволюцей на наличие достаточного количества продовольственных, топливных и сырьевых ресурсов внутри страны». Среди названных Сталиным (и процитированных в массовом издании) минусов России, с точки зрения Советской власти, громко звучало признание: «отсутствие пролетарского большинства в стране»