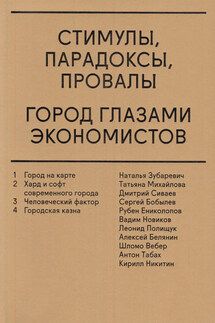Стимулы, парадоксы, провалы. Город глазами экономистов (сборник) - страница 20
Но на одном потреблении динамичную городскую экономику не создать. Есть, пожалуй, только два исключения. Речь идет, во-первых, о туристических городах, куда люди едут тратить деньги, потому что там есть либо уникальные природные ресурсы (пляжи или горы), либо наследие богатой истории и культуры, то есть то, чего не даст ни один даже самый удачный инвест-проект. А во-вторых, о городах, в которые люди массово перебираются, выходя на пенсию, – таких сейчас много в южных штатах США и на побережье Испании и Франции. Туда народ едет тратить деньги, накопленные за всю трудовую жизнь. В этих двух случаях городу незачем производить – ему нужно создавать идеальные условия для трат. В других условиях «чистый» город потребления маловероятен: без потока туристов или пенсионеров невозможно подпитывать потребительский сектор доходами извне, а значит, надо генерировать эти доходы за счет других видов экономической деятельности.
Собственно, города, которые стремились развивать потребительскую экономику, видели в ней, как правило, двигатель перемен, а не конечную цель. Тут самое время вспомнить о второй значимой предпосылке золотого века мегасобытий – деиндустриализации развитых экономик, из-за которой многие города западного мира лишились своего экономического двигателя. Именно они – а к ним можно отнести Манчестер, Шеффилд, Бирмингем, Севилью, Бильбао, Цинциннати, Турин и т. д., – сделали ставку на потребительский сектор. К концу 1980 – середине 1990-х эти города поняли, что необходимо формировать новую экономику, чтобы заменить переехавшие в Восточную Азию производства. То есть они взялись за реструктуризацию городской экономики и начали развивать новые виды деятельности. Пусть в краткосрочном периоде это рестораны и торгово-развлекательные центры. В долгосрочной перспективе, по утверждению Ричарда Флориды (автора нашумевшего «Креативного класса») и Эдварда Глейзера, благодаря улучшению потребительской среды и качества жизни в целом город начинает привлекать образованных и талантливых людей, а значит, повышается потенциал развития инновационной экономики. Таким образом, для переживавших кризис промышленных городов развитие экономики потребления оказалось панацеей.
Но при чем здесь мегасобытия? По сути, все они – праздники потребления, а подготовка к масштабным спортивным мероприятиям – развитие потребительской инфраструктуры. Возводятся новые площадки для масштабных мероприятий и гостиниц, улучшается качество публичных пространств и парков, открываются магазины и рестораны и даже строятся новые ветки метро и прокладываются новые автобусные линии, которые связывают все эти объекты в единую систему потребления. Другими словами, Олимпиаду и сопутствующее ей развитие потребительского сектора можно рассматривать как шоковую терапию для пребывающего в упадке города. Именно поэтому идущие на дно индустриальные города, поверив в потребление как в спасительную силу, видели в мегасобытиях возможность кардинально изменить свою судьбу.
В теории все выглядит логично, но удалось ли это кому-нибудь на деле? Могут ли мегасобытия и правда стать поворотным моментом в истории города? Хотя бы один город можно привести в качестве положительного примера.
Равнение на Барселону
Барселона-1992, Сидней-2000 и Пекин-2008 – три олимпиады, каждая из которых в свое время была признана лучшей в истории. Каждая установила новые стандарты проведения Игр. Барселона поразила удобством и гармонично встроенными в городскую среду аренами. Сидней стал первой Олимпиадой, на которой большая часть соревнований проходила в одном парке. Пекин и вовсе предложил миру новый уровень грандиозности во всем – от архитектуры стадионов до размаха церемоний открытия и закрытия. Но из этих трех городов только Барселоне удалось воспользоваться Играми как инструментом преображения города. А Пекин и Сидней – доказательство того, что успех самого события вовсе не гарантирует, что город от него выиграет. Так чему же стоит поучиться у Барселоны?