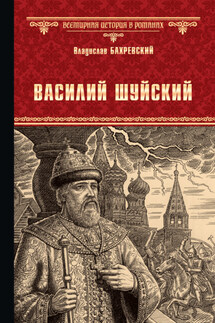Страстотерпцы - страница 26
– Не люблю об Иакове читать, – призналась боярыня. – Он ведь за чечевичную кашу да за кусок хлеба у голодного Исава, после трудов его на поле, первородство купил. Исав хлеб вырастил, убрал, смолол, а потом еще и выкупал у обманщика.
– Трудное место, – согласился Аввакум. – Дети Иакова тоже ведь лукавые. Убили честного Сихема. Он согрешил, да ведь покаялся. За Дину родство свое предлагал, готов был заплатить любое вено… Жиды – они есть жиды. И первый жид – Никон, второй – царь-батюшка.
Брякнул с разгона и смутился. Федосья Прокопьевна аж ахнула:
– Господи, пронеси! Не говори так, батюшка.
– Согрешил, – согласился протопоп. – Я у Господа, у Заступницы – вот тебе крест, Прокопьевна, – вымолю. Будет Алексей Михайлович чист и бел, как новорожденная ярочка. Михалыч Бога крепко боится, не посмеет посягнуть на веру отцов. Опамятуется, голубь.
И снова катил протопоп в карете.
Изумлялся бегущим впереди и по бокам скороходам, всадникам на белых лошадях, рысящим за каретой шестью рядами, зевакам, ради погляда облепившим заборы, деревья, крыши. Сметливый пострел в новых лапоточках на трубу забрался.
– Сколько же слуг-то у тебя? – спросил Аввакум боярыню.
– Триста.
– За царем меньше ходят, сам видел.
– Федосье Прокопьевне одного возницы хватило бы. Боярыню Морозову, батюшка, везут. Замуж вышла – удивлялась нашим выездам, а муж помер – от страха этак шествую, чтоб никому в голову не пришло обидеть меня, вдову, а того пуще Ивана Глебовича.
В Зюзине поезд боярыни встретили колокольным звоном.
– А это кому слава? Федосье Прокопьевне или тоже боярыне? – не утерпел Аввакум.
– Боярыне, батюшка, боярыне. Я у царицы четвертая персона. Привыкла, батюшка… По молодости мало что понимала… А нынче… Не скажи ты мне, я бы и не призадумалась.
По широкому двору с кустами цветущей черемухи хаживали павы и павлины. Сверкая жгуче-черным с золотым оперением, бегали между величавыми птицами суетливые крошечные курочки и петушки.
Крыльцо с резными столбами, пол в комнатах, как доска шахматная, мрамором выложен.
Сын Федосьи Прокопьевны, Иван Глебович, выскочил к матушке всклоченный, заспанный.
– На глухарей ходили, на збрю!..
Глаза виноватые, но веселые. Простите, мол. Незадача! К Аввакуму вежливо под благословение подошел, глянув вопросительно на мать: кого привезла?
– Сын мой драгоценный, возрадуйся! – сказала Федосья Прокопьевна. – Пожаловал к нам протопоп Аввакум. Полюби батюшку. Его, света, за правую веру в Сибирь гоняли.
– Как ты крестишься? – спросил протопоп отрока.
Иван Глебович вдруг вспыхнул, будто щепочка сосновая, поднял руку, сложив указательный палец со средним.
– Наш человек! – одобрил Аввакум.
А у Ивана Глебовича щеки опять пыхнули.
– Ох, батюшка! – перекрестилась Федосья Прокопьевна.
– Сам скажу! – опередил мать отрок и пал на колени перед протопопом. – Смилуйся! Отмоли мой грех! Я на людях иначе персты слагаю.
– Мы лицемеримся, – призналась боярыня.
– Типун тебе на язык! – вспылил Аввакум. – Любите сладкими словами потчевать. «Ты, батюшка, молодец, что за веру терпишь! Вона, аж до Нерчи допер! А нам, батюшка, бока наши жалко, спинку нашу белую, боярскую, кнутом не стеганную! На тебя, свет, охотно поудивляемся, поахаем, хваля твою отвагу, а сами – ни-ни! Мы – полицемеримся, нас и не тронут».
– Ты побей меня, протопоп! – заплакала Федосья Прокопьевна. – Возьми кнут потолще, стегай немилосердно, до беспамятства стегай!