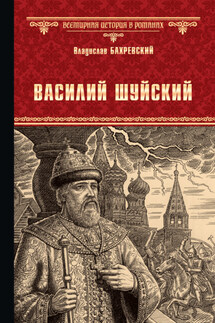Страстотерпцы - страница 38
– Плохо. Микифор в Поповском священствовал, когда я, грешный, родился, а Якушка у батюшки в Григорове дьячком был.
– Кто старое помянет, – перекрестился Аввакум. – Ты меня, Кузьма, не ругай, живем в Москве, а не виделись. Я и дома редкий гость… Три дня и три ночи о догматах глотку драл с Ртищевым, с царевым духовником Лукьяном да с Иларионом. Водишь с ним дружбу?
– Больно высок для простого батьки! Да и живет от нас, грешных, далековато. Я, братец, в Нижнем Новгороде хлебушек жую, на посаде Архангела Гавриила. В мор убежали. Спас Господь. С Иларионом-то вы не разлей вода были.
– Были! В каретах полюбил ездить. За карету Христа продал. Эх, люди, люди! Отец – святой человек, братья – люди смиренные, что Петр, что Иван. Он ведь тоже Иван. Иван-меньшой. Ты помнишь?
– Вáкушка! Как не помнить?! Я в Лыскове был, когда московский пристав заковал попа Петра да дьякона Ивана в железа. Неронов отбил Иларионовых братьев. Привел все Кириково, все Лысково. Приставу добре бока намяли. Он за пистоль, а ему по морде. Досталось потом одному батьке Неронову, в Николо-Корельский монастырь сослали.
– Жалко мне Илариона, – досадливо потряс головою Аввакум. – Как же мы с ним молились! Какие разговоры говорили об устроении церкви, благомыслия! Никон его смутил…
– Богатой жизни отведал… Он ведь женился на сестрице Павла Коломенского.
– Достаток у них с Ксенией был, а богатства – нет. Недолгое послал им Господь счастье. Как Ксения померла, Иван тотчас и постригся. Я в том году в Москву бегал… Двадцать лет минуло.
– Шестнадцать, – вставила словечко Анастасия Марковна.
– Пусть шестнадцать, – согласился Аввакум. – Постригли Илариона в день Собора Архистратига Михаила. А на другой уже год в игумены избрали. Батюшку-то его, Ананию, в патриархи прочили…
– Иларион, ничего не скажешь, распорядительный, расторопный.
– Косточки у него мягкие! Не косточки, а хрящики. Змей змеем. Колокола не отзвонили по восшествию Никона – Иларион уж на пороге, поклоны смиренные отвешивает.
– Не сразу он в силу вошел, – не согласился Кузьма. – Иконой Макария Желтоводского царю угодил да каменными храмами. При нем ведь монастырь из деревянного стал каменным. Колокольню с часами поставил.
– Часы и на деревянной были.
– А колокола? При Иларионе «Полиелейный» отлили. Во сто восемь пудов! «Славословный». В «Славословном» семьдесят три пуда.
– Не слышал о колоколах.
– Да тебя в те поры как раз в Сибирь повезли…
– Говорят, Иларион из игумнов в архиепископы за год скакнул?
– За год. Никон перевел его в Нижний, в Печерский монастырь. Посвятил в архимандриты. Полгода не минуло – вернул в Макарьев, а через три недели кликнул в Москву и сам рукоположил в архиепископа Рязанского и Муромского.
– Господи! Да что мы об Иларионе-то? Кузьма, родной! Помнишь, как твоими штанами налима на Кудьме поймали?
– Как не помнить? – засмеялся Кузьма. – И твой гриб помню. Стоим с Евфимкою на крыльце, царство ему небесное, а тут ты идешь: вместо головы гриб. Евфимка-то заголосил от страха.
Аввакум рассмеялся, да так, что на стол грудью лег.
– Грехи! Грехи! – кричал сквозь смех, утирая слезы. – Гриб-то был – во! Дождевик! Табак волчий. Невиданной величины! Тащить тяжело, бросить жалко: показать чудо хочется. Сделал я в нем дыру да и надел на голову.
Хохотали всем семейством.
– Вакушка! А ведь ты смешлив был! Ты засмеешься – весь дом в хохот, – вспомнил Кузьма.