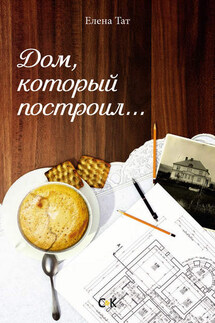Судьба и Служба. Тюркские контуры России - страница 12
И здесь «лунатики» будут удивлены, но соотечественники понимают: не по «разнарядке» в президиумах Всемирного Русского Народного Собора рядом сидят Патриарх и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. И тот шаг власти навстречу православным, «подарок 1988 года» на Тысячелетие Крещения, обернулся благом и для мусульман, и для всех верующих россиян.
Есть еще пример, совсем, может, неожиданный. Знаменитый режиссер Владимир Хотиненко мне рассказывал, что фильм «Мусульманин» (это тоже была – Веха! – тот фильм) он снимал больше даже для православных! Помните сюжет? Из Афгана односельчанин Коля вернулся мусульманином. И его спившийся брат (великолепный Балуев: «Я пахал в гальваническом цеху! Я гвозди ел! Мне плевать на Ад и Рай!»), и оцепеневшее в равнодушном атеизме село – все встрепенулись. Искреннюю веру (пусть и чужую) ощутили как ежедневный укор себе, стыдно стало «оставаться никем». Вспомнили, достали свои иконы.
В общем, связь наших «базовых исторических религий», русских и татар – неслучайна! Это, возможно, интуитивно и почувствовал тобольский предисполкома весной 1988 года, «пробивая» мусульманам здание мечети…
И сегодня тобольская история может и должна обернуться к общему благу. Например, татарские активисты во главе с Л.А. Шамсутдиновой, однофамилицей (?) прекрасной российской поэтессы Марины Шамсутдиновой, обратятся к Аркадию Елфимову с предложением (ничего зазорного – ходили же к нему в 1988 году!): рядом с поклонным крестом Ермаку, что так их взволновал, – поставить памятник и царевичу Маметкулу, ставшему большим русским военачальником.
Это была бы дань исторической правде, настоящий мемориал, просветляющий смысл прихода Ермака в Сибирь, евразийства, российской миссии вообще. Дөреслек утта да янмый, суда да батмый (правда в огне не горит, в воде не тонет).
Необходимая корректировка «идиллий» (1)
Перемещения центра тяжести внутри одного общего государства были часто связаны с войнами… не колониально-завоевательными, а внутрисемейными «войнами за старшинство».
Радик Салихов, Рамиль Хайрутдинов справедливо пишут: «Оставшееся в живых после битвы (взятия Казани Грозным. – И.Ш.) мусульманское население было выселено за пределы города. Только участвовавшим в покорении края и лояльным по отношению к русскому правительству, но не пожелавшим креститься служилым татарам была выделена земля для поселения за озером Кабан. Таким образом в районе современных улиц Ш. Марджани, К. Насыри, Ф. Карима и З. Султана было положено начало Старо-Татарской слободе. 18 июля 1593 года увидела свет «Царская грамота в Казань» о построении слободы с церковью и переводе туда из уезда новокрещенов, поколебавшихся от соседства с иноверцами в православной вере, о разрушении татарских мечетей, «с запрещением впредь строить оные».
Как государство сживалось с этой новой «вводной» (разность религий), его меры, удачные/неудачные приемы – предмет внимания значительной части этой книги. А пока…
Столица Улуса Джучиева не в Сарае теперь, не в Казани, а в Москве, ясак платить надо туда, молиться за здравие царя Ивана Васильевича. Как двести лет до того русские крестьяне молились за «доброго царя Джанибека». «Добрый царь Джанибек» тоже сохранился в русском фольклоре. Ханы и были наши первые цари. Их дети – царевичи, как «царевич Арапша». Центр силы в Улусе Джучиевом перемещался – легитимность