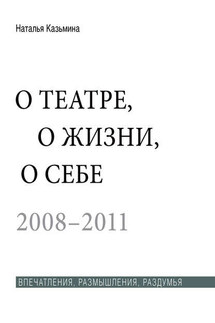Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы - страница 66
– Вы тут касаетесь вопроса кардинального – и в размышлениях Станиславского, и в трагедии любого мастера. Именно у мастера в какой-то момент лабораторная работа становится выше практики. Это объективно интереснее – сам процесс познания, репетиции. Ну, еще один хороший спектакль я поставлю, и что? У Немировича со Станиславским на этом же трагедия возникла. Немирович, как опытный практик и блистательный директор, доказывал Станиславскому, что невозможно театр превращать в лабораторию, а тот отвоевывал себе это право.
– И, может быть, как раз эта энергия противоречия, внутреннего диалога и уравновешивала их, и позволяла театру уцелеть, не рухнуть в крайность?
– Кстати, в самые гадкие времена русский театр, русскую актерскую школу спасла от профессионального падения вся вот эта система – то, что называется подтекстом, «другим» сюжетом, который создавал режиссер иногда параллельно сюжету основному. Хмелев играл ужасную пьесу, но играл прекрасно, потому что владел «другим» сюжетом.
– Сейчас я часто слышу от самых разных людей, что выстраивание подтекста как раз и есть изъян нашей «школы».
– Идеальное отсутствие подтекста – это же сериал.
– Кстати, и в сериале это нехорошо, неинтересно. Подтекст – это же побудительные мотивы, причины тех или иных действий, логика поведения действующих лиц. Значит, либо ее выстроить не умеет режиссер, либо ее попросту нет в сценарии. И, если в это углубляться, все посыплется. Поэтому «и так сойдет». Но это смертельно скучно и картонно. И в театре я часто такое вижу, как актеры «раскрашивают» текст, читают пьесу по ролям. Вижу и в «левом» татре, и в «правом». Хорошо зрителю, который сюжета не знает, а мне так смертельно скучно. Может, это тоже симптом конца?
– А может, как раз начала? (И мы опять смеемся.)
– Я бы еще с удовольствием продолжила с многолетним председателем АССИТЕЖ разговор, начатый весной на фестивале «Радуга», – о детском театре. Так получилось, что я в последнее время посмотрела массу детских спектаклей в Москве и сильно приуныла. И тут у нас проблем выше крыши. Вот скажите мне, как опытный человек, детский специализированный театр нам сегодня нужен? А тот театр, который был у вас, у Корогодского, у Киселева и др. (причем они все разные были, и по стилю, и по языку), – тот театр возможен? Или какой нужен? Или и этот опыт надо тоже оставить в советском времени?
– Само по себе, мне кажется, это стоящее, красивое и благородное дело, дело подвижника. Взрослому театру тоже хорошо бы, конечно, быть подвижничеством, но детскому совершенно необходимо. А подвижников мало, мало актеров и режиссеров, мыслящих, как педагоги. Это особый дар – ставить для детей. Когда это дело ставится на поток, происходит стандартизация, возникают штампы. Саму идею я как-то не отметаю. Хотя у меня в Риге же был не детский театр в расхожем смысле этого понятия.
– Но ведь были же спектакли, рассчитанные на разные возраста?
– Я сделал один детский спектакль, которым могу гордиться и который был потом растиражирован, – это «Чукоккала». Мы создавали спектакль для детей, но совсем не об этом, между прочим, думали, а о том, что такое стихотворение на сцене. И создавался этот спектакль в полемике… с Любимовым, с тем, как он обращался со стихом. Знаете, еще почему трудно сделать детский спектакль? Потому что ты быстро исчерпываешь запас своих детских впечатлений.