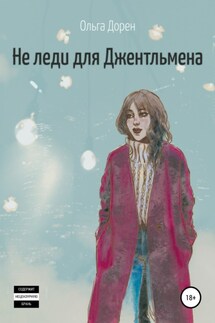«…сын Музы, Аполлонов избранник…». Статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина - страница 31
Царь Петр дал волю своему коню, и видно, что несся он, все попирая на своем пути. Одним скачком очутился он на самом обрыве утеса. Безумный конь уже занес копыта, – царь его не сдерживает, конь грызет удила… И чувствуешь, что он обрушится и разлетится в куски! Век уже высится он в прыжке, но не обрушивается, – словно с гранитов низвергающийся каскад, когда, скован морозом, он повиснет над бездной. Но чуть лишь блеснет солнце свободы, и западный ветер обвеет теплом это царство, что станет тогда с каскадом тиранства?!
Для данного вопроса не важно, мог ли Пушкин в 1828 г. желать, как это приписал ему Мицкевич, коню, делу, России Петра Великого – рухнуть и разлететься в куски (простая хронологическая справка отвергнет эту возможность: в 1828 г. написана «Полтава», в 1827 г. начат «Арап Петра Великого», в 1826 написаны «Стансы»), зато важно то, что перед памятником Петра Великого и по поводу него поэты беседовали о слепом деспотизме и мудром абсолютизме. Поэтому, когда задетый приписанным ему политическим миросозерцанием, Пушкин пожелал восстановить свой истинный взгляд на Россию и выбрал для этого тот же памятник Петру Великому, то, конечно, замысел его поэмы был политический: прославление Петровой монархии и вера в ее неколебимость и победу над всеми стихиями.
Пушкин, сам ссылаясь в своих примечаниях к «Медному Всаднику» на стихи Мицкевича, нигде, однако, их не опровергает, – и понятно, почему: сама его поэма и есть его исчерпывающий ответ и опровержение!
Мы должны быть благодарны Мицкевичу за его, пусть и неверные, стихи о нашем поэте, т. к. ответом на них явилось создание одного из величайших и совершеннейших произведений Русской литературы, – и за то еще, что, благодаря им, мы имеем возможность видеть природу гения – как перекликаются друг с другом «родственные альпийские утесы, разобщенные навеки горным потоком»{89}, и как откликаются они – не злобными словами, но величественными образами.
«Моцарт и Сальери»
Опять трагедия страсти, еще более, пожалуй, ужасной и стыдной, – зависти (пьеса первоначально так и была озаглавлена «Зависть»).
Но Пушкин и здесь сумел выделить тот момент этой страсти, когда она перестает быть презренной, когда и она озаряет трагическим заревом безысходно ею пораженного человека, – это когда испепеленный ее пламенем Сальери убивает Моцарта.
Сальери – не какое-нибудь ничтожество, которое и себе самому никогда не признается в своем позорном чувстве: как Печорин, он, хоть и с ужасом, но мужественно называет его: «А ныне – сам скажу – я ныне завистник! Я завидую; глубоко, мучительно завидую».