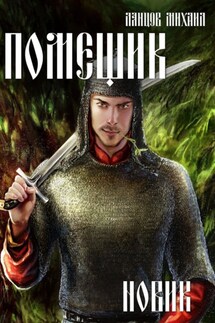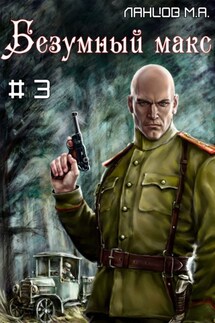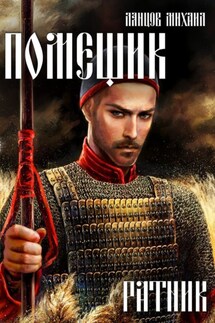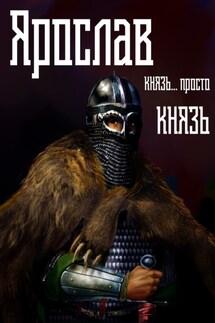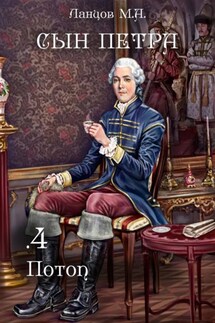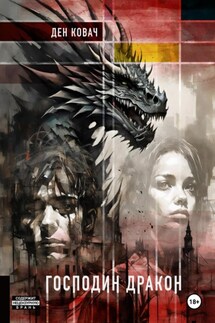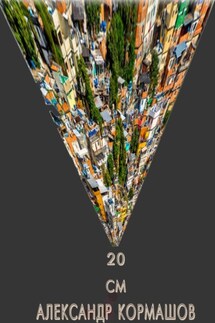Сын Петра. Том 3. Шведский стол - страница 19
– Миллионы мух не могу ошибаться?
– Сложный ты человек, – с улыбкой покачал головой Василий Голицын. – Иной раз все так выворачиваешь, что я диву даюсь.
– Настроение просто озорное, – улыбнулся царевич. – А алкоголь я попробую. Обязательно попробую. Но потом. Может быть. Половину.
– Без всякого сомнения, – серьезно кивнул Голицын. А потом, сделав небольшую паузу, начал тему, ради которой он и подошел. – Я давно хотел тебя спросить об одной довольно интимной вещи. Хм. Даже не знаю, как начать…
– Начните с самого начала. Обычно так проще.
– Думаешь?
– Уверен.
– У нас в державе все общество разделилось на ревнителей старины и тех, кто смотрит на Запад. А ты… я никак не могу тебя понять. Какая-то серединка на половинку. То стоишь за самое рьяное обновление. То за старину держишься похлеще иного ревнителя. Как так?
– Понять меня несложно, Василий Васильевич. Наша страна отстала. Это факт. Сильно отстала от ведущих мировых держав. И людей мало, и производств, и вообще. На века. И там, где француз может идти спокойной походкой, двигаясь в ногу со временем, нам нужно бежать самым отчаянным образом.
– Я согласен, – кивнул князь. – Но тогда отчего ты непоследователен в стремлении в переделке России по западному образцу?
– На это есть две причины. Первая лежит на поверхности. Ну сам посуди, если мы будем у них только учиться, то никогда не обгоним. Не так ли? Они придумали. Мы взяли. Пока брали, они придумали что-то новое. Мы вечно будем догонять. Идти в кильватере послушным мателотом. Разве нет?
– Пожалуй. Я никогда не думал в таком ключе.
– Это на самом деле то, что лежит на поверхности. Ученик может превзойти учителя только тогда, когда сможет жить своим умом, а не просто подражать мастеру. К тому же слепое подражание опасно и другим неприятным следствием. Превращением в колонию.
– Но позволь! Колонии завоевывают!
– Не всегда. Есть разные формы колониализма. Хм. Вот ответь – что такое колония?
– Эм… – задумался Голицын, явно не имея в кармане удобного и готового ответа.
– Обычно это зависимая территория, которая обеспечивает сырьем метрополию, получая взамен ремесленные товары. Так?
– Допустим.
– Вся суть колонии в так называемом торговом балансе. Метрополия покупает у вас сырье, перерабатывает, продает вам более сложные товары. Разницу же кладет себе в карман. Иначе это равноправные отношения. Как несложно догадаться – в колониях нужно только добывать сырье. Его переработка – удел метрополии.
– И как это связано с нашим случаем?
– Если мы учимся у Запада, то оказываемся вечными учениками, которые раз за разом покупают этот самый продукт переработки – знания. Что делает нас сначала вечно догоняющими. Этакой развивающейся державой, стоящей всегда на ступень ниже развитых. А потом, в процессе, ставит нас в зависимость совершенно колониального толка. Сначала в культурную, а потом и экономическую. Или ты думаешь, наши учителя будут такими благодушными и не воспользуются этой возможностью? – усмехнулся Алексей. – В таких делах нужно держать нос по ветру и помнить о торговом балансе. О его равновесии не только количественном, но и качественном. Об определенной равнозначности. Так что вряд ли меня можно отнести к подражателям. Ибо они не ведают меры. Брать нужно. Все, что плохо лежит. Все, что можно применить. Но не подражать и тем более не становиться учеником. Это путь в бездну.