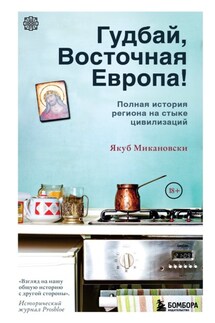Тень Бога. Султан Селим. Владыка османов и творец современности - страница 9
Церемония должна была пройти безупречно, как знакомство принца с миром за пределами дворца и как средство доказать эффективность воспитания матерью сына. Мать шехзаде взяла на себя организацию, но, как это было тогда принято, на публичных торжествах сама не присутствовала. Таким образом, церемония обрезания олицетворяла двойную роль императорской матери: с одной стороны, заботливой и родной матери шехзаде, а с другой – женщины, теоретически способной организовать захват власти ее сыном. Она не только успокоила своего маленького сына после болезненного хирургического вступления во взрослую жизнь, но и помогла провести первое крупное международное мероприятие в его жизни.
Церемония обрезания Селима выпала на пик османо-венецианских отношений. До завоевания Константинополя в 1453 году османские и венецианские войска несколько раз оказывались в шаге от полномасштабной войны, но экономические интересы в желании поддержания потока торговли между Востоком и Западом почти всегда брали верх. Однако после 1453 года война стала неизбежной, поскольку османское наступление на Балканах было серьезной претензией на венецианские территории с захватом османами Сербии в 1459 году.
Несколько лет спустя, в 1462 году, османский военачальник албанского происхождения – он был схвачен во время одного из набегов, в ходе которых балканские мальчики регулярно попадали в империю, – перебежал в венецианскую крепость недалеко от Афин. Понятно, что османы потребовали его возвращения. Когда венецианцы отказались, началась война. В действительности османы использовали беглеца как предлог для вторжения в Афины и дальнейшей экспансии на Пелопоннесе и на Балканах, вплоть до Боснии, которую они завоевали в следующем году, и Албании, в которую вошли после этого.
Этот период конфликта наконец закончился в 1479 году османской осадой города Шкодер, удерживаемого венецианцами (на севере современной Албании). Данная победа позволила османам распространить свою власть дальше на север, вдоль Адриатического побережья. Константинопольский договор, подписанный 25 января 1479 года, завершил долгую череду войн между двумя странами. После десятилетий войны господство Османской империи в Восточном Средиземноморье – фактически на самом пороге Венеции – стало официально признанным, как и значительно уменьшившийся региональный статус итальянского государства. Таким образом, было понятно, что всего через несколько месяцев после этого позорного поражения венецианский сенат был не в настроении отправлять любимого представителя на церемонию обрезания Селима. На самом деле, они не послали никого, чтобы показать пренебрежительное отношение к Селиму – и, что более важно, его деду, султану Мехмеду II.
Роскошный гарем Баязида был густо населен: 27 детей, несколько жен и целая свита наложниц. Из десяти его сыновей реальными претендентами на трон стали второй, третий и четвертый сыновья: Ахмед, Коркут и Селим. Его первенец Абдулла умер в 1483 году в возрасте 18 лет, а остальные шестеро так и не достигли больших успехов, чем спокойная и непыльная работа на постах бейлербеев различных анатолийских городов. Как и Селим, Ахмед и Коркут родились от наложниц в Амасье – в 1466 и 1467 годах соответственно. Все получили одинаковое гаремное образование в области языков, философии, религии и военного искусства. Вначале Баязид, похоже, выбрал Ахмеда в качестве своего возможного преемника (позже он отдаст предпочтение именно ему) – вероятно, потому что тот был старшим выжившим сыном или Баязид считал его самым способным. Какова бы ни была причина, отец передал управление империей Ахмеду задолго до его братьев. Мальчиком он посещал собрания, создавал команду советников и развивал отношения с важными военными деятелями. Несмотря на эти преимущества или, возможно, по причине свалившейся на него привилегии, Ахмед стал ленивым. Тело его полнело, а ум становился вялым. Согласно одному греческому источнику XVII века, Ахмед «думал только о еде, питье и сне». Он наслаждался радостями жизни во дворце и рассматривал трон скорее как привилегию своего первородства, чем как что-то, что он должен будет отвоевать у младших братьев.