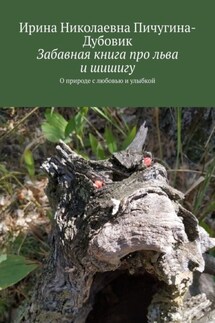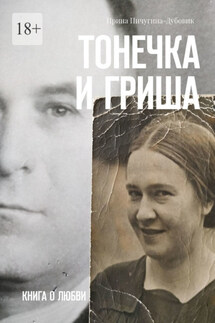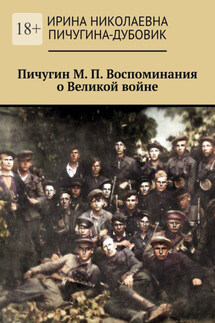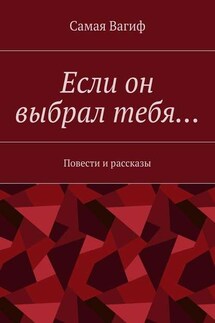Тонечка и Гриша. Книга о любви - страница 4
Часто, очень часто, бывает теперь Степан в отлучке.
Ездит с составами в Китай.
И каждый раз поражается чудесам.
Сказочным природным ландшафтам – богатству выдумок незримого, вездесущего творца, вознёсшего к облакам эти кручи, расстелившего, как скатерти самобранки, эти луга и поляны, щедрой рукой рассыпавшего вековые вечнозелёные леса и живописные долы… Красота-то какая!
А ещё восхищается Степан искусностью человека – дорожного строителя. Прорубил человек тело гор, вечной мерзлоты, пробурил тоннели, возвёл высоченные насыпи, чтобы спрямить рельефы местности.
Как червь ползёт-извивается состав Степана. Свистит-ревёт паровоз…
Еле вписывается состав в узкие теснины меж прорубленных сопок.
Ныряет в темень каменных утёсов, меряет вёрсты болотистой равнины…
Всё дальше и дальше идут-бегут рельсы, мелькают шпалы стучат колёса… Вперёд-вперёд!
Где окончится дорога?
Может и нет у дороги конца?
Катерина же живёт в посёлке возле пригородной станции Угольная. Живёт в своём большом доме среди целой слободы Беловых: родных братьев, сестёр, двоюродных и троюродных, дядьёв и тётушек.
Вот уж и свои детишки пошли… Трое старших (Никита, Марья, Георгий), а затем и Тонечка, за нею – Таня и Люба.
Достойная должность Степана даёт возможность жить хоть и не роскошно, но безбедно. Семью уважают.
Первая мировая не затронула работников КВЖД – слишком важным был объект для всех. И Степан призван на войну не был.
А казаки-уссурийцы выставили на поля далёкой от них и чуждой русским войны конный полк шестисотенного состава, конный дивизион из трёх сотен и ещё шесть отдельных сотен.
Вот сколько собрали людей.
Храбро бились уссурийцы. Многие сложили буйны головы на европейских полях той войны, в грязи окопов, задыхаясь от немецких газов… Так далеко от родных дальневосточных мест.
Казак умирает, друзей умоляет:
– Насыпьте курганчик земли в головах… Так сложили песню… В боях с немецкой кавалерией героями показали себя казаки! Немногие вернулись домой.
А те, кто вернулся, пришли с Белой Армией.
И дальше события в неспешное Приморье посыпались, как из рога изобилия.
Завертелось, закрутилось колесо Истории.
В город прибывали войска, много войск. С ними вместе – немыслимые ранее порядки и страшные, потрясающие воображение, слухи о сломе мирового трёхсотлетнего государственного устоя, о надвигающемся конце света…
Тем временем, в сонном посёлке на пригородной станции Угольная, росла себе героиня нашей повести – Тонечка. Раньше, до начала угольной добычи, место это называлось «Разъезд 30-я верста». Но нашли уголь, открыли шахту, стала теперь станция – Угольная.
Посёлок этот был заселён казаками довольно поздно. Раньше здесь жили только корейцы. Долина полуострова Муравьёва-Амурского, конечно, место весьма примечательное, но для первопоселенцев – не мёд и не сахар. Зажатая сопками, выходит долина к Амурскому заливу.
Бежит там речка Песчанка.
С востока над станцией Угольная и посёлком вздымается Синяя сопка. Высокая и непролазная. Летом стоит вся она в зелени кустарников, дальневосточных лиан и пихт. Растёт там и приветливый лимонник, и колючий чёртов куст.
Вот уж, воистину – чёртов куст. Высотой в два человеческих роста, всё вокруг оплёл плетями в острых колючках. Мимо так просто не пропустит.
Тонечка всем на свете интересовалась, выспрашивала мать.
– А отчего это – «чёртов куст», а иные говорят – «дикий перец»?
– «Чёртов куст» потому, что лезет, хватает тебя! Пока продерёшься мимо него, чёрта дикого, перечертыхаешься, всё платье порвёшь. А «дикий перец» – потому, что корни его выкапывают и лечатся ими. Бають-то, ничем они женьшеню не уступают, – так поясняла Катерина дочурке.