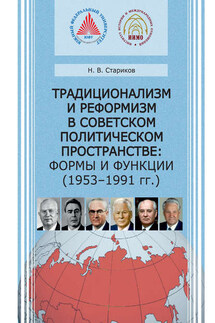Традиционализм и реформизм в советском политическом пространстве: формы и функции (1953–1991 гг.) - страница 19
На социальном измерении адаптации построена книга Б. А. Грушина, содержащая уникальный материал о предпочтениях поколения 1950-х – начала 1960-х гг., их ценностях, видении внешнего мира, семьи, уровня жизни. Анализ таблиц позволяет читателю самостоятельно выявлять характеристики советского общества. Для автора принципиальный вопрос, «что из себя представляли… люди, репрезентировавшие советский/российский народ, когда (если) они высказывались по тем или иным сюжетам»[57]. Типологические характеристики массового сознания построены на базе суждений-мнений, суждений-«фотографий», соотносимых с авангардными отрядами. «Высокий позитивный эмоционально-психологический тонус абсолютного большинства» и «весьма высокий оптимизм в отношении своего будущего» сопряжены с разрывами в отношении к базовым принципам, что позволяет выделять типологические группы. Применительно к молодежи это активные продолжатели революции; романтики, видящие смысл жизни в служении народу, людям; творцы, ориентированные на высокий профессионализм; скромные трудяги-середняки; недовольные собственной жизнью и разочарованные в сверстниках; нигилисты и «прожигатели жизни»; скрытые диссиденты.
Выборка предпочтений, основанных на учете потребностей, оставляет в стороне вопрос: нагрузка каких факторов являлась основой дифференциации, выделения групп? Эти факторы неизбежно восходят к политике тех лет, разрывам в политическом сознании «низов» и «верхов», предполагают учет двоемыслия, присущего советской политической сфере 1950-х – начала 1960-х гг., двойственности партийных документов, переживания символов, что само по себе затрудняет анализ эмоционально-поведенческих феноменов.
Другой вопрос связан со степенью групповой адаптации, причем это относится не только к социальным стратам, молодежи, но и к партийно-политическим группам реформаторской и традиционалистской ориентаций.
Социологические методы ограничивают возможности построения критерия интенсивности адаптации применительно к постсталинской политике. Напротив, метод корреляционной адаптометрии[58] позволяет выявлять особенности процесса адаптации и индикации различий в однородных выборках. Это значимо в плане выявления различий адаптационных возможностей реформизма и традиционализма 1950-х – начала 1960-х гг.
Для анализа постсталинской адаптации допустимо использование системы моделей, основанных на идее Г. Селье о всеобщем ресурсе адаптации (адаптационной энергии), выявлении различий в ее распределении.
Информацию о степени адаптации советской системы к изменившимся условиям может дать корреляция параметров поддержки и ответа. В ее основе – положение, что рост советской системы неизменно контролировался ресурсным дефицитом как ключевым лимитирующим фактором. С этим связаны различные модели адаптации. Они показывают перераспределение адаптационного ресурса, повышающего сопротивляемость одним факторам и в то же время снижающего сопротивляемость другим. Так, культ личности – один из значимых стимулов адаптации -по-разному влиял на обретение традиционализмом и реформизмом способности более интенсивного реагирования на те или иные стимулы. Другой адаптационный ресурс – коллективность руководства – при увеличении общей адаптационной нагрузки в 1953-1957 гг. постоянно менял значения.
Понятие «адаптация» охватывает не только способность систем отражать посредством изменения факторы среды, но и способность этих систем в процессе взаимодействия создавать в себе механизмы и модели изменения и преобразования. Символика и ритуалы в этом плане – эффективный политический ресурс, значимый информативный маркер советской системы, сложное пространство с динамикой форм, соответствующих политическим идеям и сценариям власти. Символы – неотъемлемая часть формирования, фиксации и воспроизводства советской идентичности. Понимание регулятивной функции символов, обеспечивающих устойчивость социальной организации и властных отношений в разрезе реформизма и традиционализма, соотносится с формированием интеллектуальной и эмоциональной приверженности масс политике правящей партии. Совокупная знаковая система в пространстве между идеологией и политической рекламой – символика – обеспечивала возвеличивание КПСС в поведенческих, монументальных, идеологических сферах и образцах.