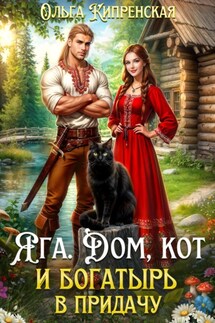Трагический эксперимент. Книга 6. - страница 26
«Ни один врач не мог забыть указать результаты RW, если только на это не было особого указания… Лечащие врачи Ульянова диагностировали у него люэтическое поражение мозга, лечили только это заболевание, и другого лечения не было», – констатирует Новосёлов в статье, опубликованной в сборнике Института экономики Уральского отделения РАН.
По словам медика, ничего удивительного или постыдного в том, что у Ленина была третичная форма сифилиса – нейролюэс, нет. В начале ХХ века в отдельных местностях России сифилисом болели более 43 % населения. Заражение часто происходило бытовым путём – через общие полотенца и посуду. Новосёлов говорит: «В дневнике есть косвенный признак, указывающий, когда Ильич мог заболеть. Я нашёл это в первичном анамнезе, который собрал Василий Крамер 28 мая. Это могло произойти в самарском периоде 1892–1893 годов, когда Ульянов был молод и хорош собой, вырвался от маменьки и папеньки. Вот и были половые связи.
В то время он перенёс малярию и брюшной тиф. Указано, что больше он не болел, за исключением повторных приступов малярии. Крамер говорит, что его тяготили головные боли. Так вот, если человек уезжает из заражённого региона, то болезнь сходит на нет, и никаких повторных приступов не бывает (но это стало известно врачам только в 40‐х годах, из монографии Тареева). <…> Скорее всего, именно болезнь объясняет появление таких качеств, как бескомпромиссность, жёсткость, способность взять в руки палку (с А. А. Богдановым он хотел даже на Капри драться на палках). У пациентов с нейросифилисом наблюдается озлокачествление поведения: совершенно нормальный отец семьи становится деспотом…
Профессор Минор писал в своём учебнике по неврологии: «Такие больные должны быть удалены от дела, служащий должен взять отпуск и уехать в деревню для полного умственного и физического покоя или должен быть помещён в санаторий там же». Великий невролог настаивал, что психика больного сифилисом должна быть тщательно оберегаема во всей его жизни. А у нас такой пациент руководил страной в острый период – Гражданскую войну…»
По поводу медицинского заключения 1924 года Валерий Новосёлов имеет возражения:
«Во-первых, использован термин Abnutzunsgsclerose в заключительной части, что в переводе на русский язык с немецкого обозначает «склероз от изнашивания». Такого термина не существует, не существовало, никто никогда ни до, ни после смерти Ульянова его не использует. Это единичный случай в мире. Почему в акте, который написан на русском языке, а он объёмный, использован один термин на немецком языке, причём, даже назвать его термином нельзя? Теории атеросклероза как следствия износа сосудов уже в начале ХХ века были несостоятельными. Есть расхождения в заключительной части, результативной, и в описательной части.
Если вдаваться в описательную часть, атеросклероз у пациента был по возрасту, то есть он действительно был, но он не являлся причиной его смерти. Сосуды описаны не как атеросклеротические. Для атеросклероза характерны поздние пятна и бляшки, то есть вещи, ограниченные по длине сосуда. Сосуды описаны совершенно по-другому. И Семашко (там было два наркома на вскрытии – Семашко и Обух; оба занимались здравоохранением, Обух – московским, а Семашко был наркомздравом РСФСР) написал статью, тема которой «Что же дало вскрытие тела Ульянова?» И он описывает, как свидетель, эти изменения сосудов как шнуровые: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения, речи, в левом полушарии, оказались настолько изменёнными, что представляли собою не трубочки, а шнурки». Обычная логика говорит о том, что шнур – это не бляшка. <…> Поэтому встаёт вопрос: что же это было? Почему никто никогда не поднимал такие вопросы? А кто должен был поднимать? До разрушения Союза в 1991 году такие вопросы поднимать было невозможно, это опасно было и административным преследованием, и уголовным наказанием. До 1999 года доступ к документам был ограничен. Сегодня ограничения сохраняются. Документы нельзя получить. У нас есть документ – акт патологоанатомического исследования, сделанный Абрикосовым, к которому мы все, врачи, испытываем очень большое уважение. Любого врача спроси, кто такой академик Абрикосов, все скажут, что это основатель отечественной патологической анатомии. Его знают врачи всех специальностей. <…> Я считаю, что в этой ситуации коллеги заслужили право на историческую правду. Потому что кроме пациента у нас ещё есть врачи, которые сегодня находятся в неудобной позиции: их до сих пор обвиняют в том, что якобы лечили «не от того» и «неправильно». Это первый миф, который должен уйти из исторической повестки. На самом деле лечение было правильным, соответствующим самым высоким стандартам. Лечившие Ленина врачи не могут уже сказать ничего в силу того, что прошло 100 лет. Но коллеги из будущего, то есть мы, должны сказать слово за этих врачей. <…> Сейчас для нас есть три источника знания о причинах смерти Ленина – тело Ленина; остатки его мозга, которые находятся в музее медицины, который сейчас в здании бывшего московского Института мозга; патологоанатомическое заключение, которое у меня есть в доступе, поскольку оно в свободном обращении находится с момента опубликования в газетах в январе 1924 года, и медицинская документация пациента. Документации было много, я знаю, что были ещё дневники психологов, логопедов, которые работали с Ульяновым. Есть ли история болезни – я не знаю. Возможно, дневники лечащих врачей являются единственным надёжным документом. В них нет ни одного диагноза, часто записи сокращённые, нет точных дозировок. Но клиническое мышление было сто лет назад таким же творческим, как и сейчас. И я прекрасно понял этих врачей – что они делали, как они делали. Там есть мнение врачей, которые были консультантами, те же Бехтерев, Авербах, Россолимо. Этот документ очень интересный, насыщенный информацией. 410 страниц – сами понимаете, есть что прочитать. <…>