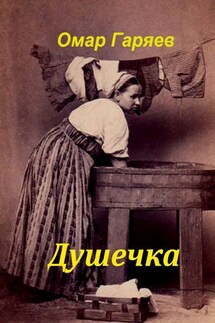Трещина в «Пятничном слоне» - страница 21
Часть 2.8: Язык как Дом с Призраками
Мы все еще стояли на платформе, пытаясь прийти в себя после звуковой атаки и внезапно наступившей тишины. Серая пыль медленно оседала, покрывая все вокруг тонким, мертвенным слоем. Поезд молчал, застывший и постаревший. Будка с манекеном зияла темным провалом неподалеку. Ощущение ирреальности происходящего было настолько сильным, что казалось, мы попали в картину сюрреалиста или на страницы абсурдистской пьесы.
– Он говорил… – начала Кори, ее голос звучал хрипло, – Наблюдатель… он говорил, что укажет направление. Но потом исчез. А эта записка… «Не туда». Это ловушка? Он играет с нами?
Я не знал, что ответить. Фигура Наблюдателя была такой же туманной и ненадежной, как и все остальное в этом кошмаре. Его слова о помощи, о направлении могли быть чистой манипуляцией. Его мерцающее лицо, его философские рассуждения о квантовой неопределенности личности – все это могло быть лишь маской, скрывающей истинные намерения. Или не скрывающей ничего, кроме пустоты. Я вспомнил его фразу: «Язык – это дом бытия, но он всегда не достроен и полон призраков». Эта фраза, брошенная как бы невзначай, теперь приобретала новый, зловещий смысл. Мы пытались найти смысл в происходящем, опираясь на слова – слова Октава, слова Наблюдателя, слова на записке. Но что, если сами слова были ловушкой? Что, если язык, который мы использовали для ориентации, был ненадежен, как старая карта с белыми пятнами и вымышленными чудовищами?
«Дом бытия, полный призраков». Призраки – это отсутствующие значения, те смыслы, которые ускользают, откладываются, мерцают, как лицо Наблюдателя. Слово «Октав» – что оно означает теперь? Друга? Ученого? Безумца? Монстра из трещины? Эхо? Все это сразу и ничего конкретного? Значение расплывалось, деконструировалось. Слово «трещина» – это метафора? Физический разлом? Психическое состояние? Или сам язык, который трещит по швам, не в силах удержать реальность? «Не туда». Куда «не туда»? Не в будку? Не на эту станцию? Не по этому пути? Записка указывала на ложность направления, но не давала верного. Она лишь усиливала ощущение потерянности, блуждания в лабиринте знаков без выхода. Мы находились в доме языка, построенном Октавом и Наблюдателем, но дом этот был заброшен, населен призраками старых смыслов и сквозняками из трещин, ведущих в ничто. Каждое слово, каждая фраза могли быть как ключом, так и ловушкой. Наблюдатель сказал: «Реальность… она всегда ускользает от описания». Он сам был воплощением этого ускользания. Его речь была полна метафор, намеков, философских отсылок, но она не давала твердой опоры. Она лишь подчеркивала нестабильность, текучесть, невозможность окончательного понимания. Он говорил как постструктуралистский текст – полный игры знаков, отсылок, но лишенный центра, гаранта истины.
Возможно, Октав, увлекшись идеями деконструкции, сам стал жертвой этой игры? Пытаясь разобрать реальность на составляющие знаки, он потерял связь с референтом, с тем, что эти знаки должны были обозначать. Он заблудился в лабиринте языка, в доме с призраками, и сам стал одним из них – эхом, следом, отсутствующим присутствием. А Наблюдатель? Был ли он порождением этого процесса? Сущностью, возникшей из распада смысла? Или он был внешним агентом, использующим эту нестабильность в своих целях? Был ли он «автором» этого кошмарного текста, в который мы попали, или просто еще одним «читателем», наблюдающим за распадом со стороны? Его слова о том, что он «не вмешивается», казались лживыми. Его появление, его указания, сама его манера говорить – все это было вмешательством, активным формированием нашей реальности, нашего восприятия. Он подталкивал нас, направлял, но куда? К выходу из лабиринта? Или глубже, к самому его сердцу, где ждет не Минотавр, а окончательный распад смысла, встреча с абсолютной пустотой?