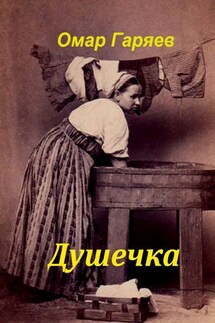Трещина в «Пятничном слоне» - страница 26
Часть 3.2: Письма из Другой Памяти
Пока я осматривал главную комнату, борясь с нарастающим чувством тревоги и ощущением невидимого присутствия, Кори методично исследовала остальные помещения дома. Их было немного: крошечная спальня с узкой кроватью, застеленной пыльным одеялом, ванная комната с ржавыми подтеками на раковине и кухня, которая, казалось, не использовалась по прямому назначению уже очень давно. Плита была холодной, в раковине не было посуды, лишь несколько пустых консервных банок стояли на полке. Октав, видимо, питался чем-то иным – идеями, кофе и никотином. Именно на кухне, в одном из настенных шкафчиков, заставленном банками с давно засохшими специями и пакетиками с плесневелым чаем, Кори и нашла их. Письма. Вернее, не совсем письма. Это была толстая пачка листов, вырванных из блокнота, исписанных мелким, убористым почерком Октава и перевязанных выцветшей бечевкой. Они были спрятаны за банкой с окаменевшим растворимым кофе, словно Октав хотел их скрыть, но не уничтожить. Кори принесла пачку в главную комнату, положила на заваленный бумагами стол. Пыль взметнулась от ее движения. Бечевка была завязана сложным узлом, похожим на те, что используют моряки. Или на символ бесконечности. Кори посмотрела на пачку с каким-то странным выражением. Не просто любопытство или ожидание. В ее взгляде была смесь страха и… предвкушения боли? Словно она знала или догадывалась, что содержится в этих листах, и боялась прикоснуться к старой ране.
– Это… это, наверное, его дневник, – сказала она тихо. – О том времени. Когда мы были… там.
«Там». Западное побережье. Лето любви, наркотиков и свободы, обернувшееся кровавым кошмаром. Я помнил ее редкие, обрывочные рассказы. И помнил, как эта тема всегда была для нее болезненной, запретной. Октав, видимо, решил записать это. Зачем? Чтобы разобраться? Чтобы исповедаться? Или для чего-то еще? Кори дрожащими пальцами развязала узел. Бечевка соскользнула, и верхний лист открылся. Дата. Почти десять лет назад. И первые строки, написанные знакомым угловатым почерком: «Солнце здесь другое. Оно не греет, а выжигает. Выжигает память, выжигает стыд. Мы едем на юг, в старом фольксвагене, который пахнет травой и несбывшимися мечтами. Кори спит рядом, ее волосы как пламя на фоне синего океана. Она улыбается во сне. Интересно, что ей снится? Не тот же кошмар, что преследует меня?»
Мы начали читать. Сначала по очереди, потом просто молча передавая друг другу исписанные листы. Это действительно был дневник того путешествия. Описания были яркими, почти галлюциногенными. Октав писал о жаре, о музыке, о психоделических трипах на пляже под звездами, о спорах о Кастанеде и Тимоти Лири у костра, о случайных связях, о чувстве безграничной свободы и одновременно – о предчувствии беды, которое сквозило даже в самых идиллических описаниях. Он писал о Кори – с нежностью, страстью, но и с какой-то отстраненностью, словно наблюдая за ней со стороны, анализируя ее, как экзотическое насекомое. Он писал о себе – о своих метаниях, о поиске «истинной реальности» за пеленой обыденности, о попытках соединить физику и мистику. И по мере чтения становилось ясно, что это путешествие было для него не просто молодежным бунтом или поиском удовольствий. Это был осознанный эксперимент. Эксперимент над собой, над Кори, над самой реальностью. Он искал «трещины» уже тогда. Искал способы расширить сознание, выйти за пределы консенсусной галлюцинации, которую мы называем миром.