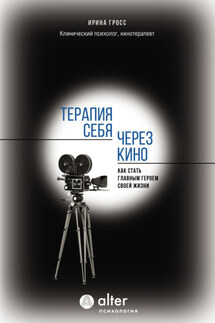Тревожность. Как дисциплинировать беспокойный ум - страница 3
Наконец, для тех, кому невыносимо тревожно прямо сейчас, я сделала приложение «Полезные техники от тревожных атак». Бывают ситуации, когда почти невозможно остаться невозмутимым, даже если вы не страдаете от повышенной тревожности. В последние годы мы все, я думаю, пережили подобное не раз. В таких ситуациях некогда проходить весь путь работы с тревогой, описанный в книге. Нужны техники, которые помогут преодолеть тревогу здесь и сейчас. Они существуют, и я собрала их в данном разделе. Заметьте, что эти техники не панацея и не замена терапии, они призваны лишь помочь облегчить состояние в момент, когда тревога не дает жить в буквальном смысле.
Итак, давайте начнем!
Часть 1. Тревожность от «А» до «Я»
Глава 1. Знакомьтесь: тревога
Что такое тревога?
Мне придется начать этот раздел с неприятного признания: увы, у психологов нет какого-то общепринятого определения тревоги. Существует множество гипотез и подходов к тому, что такое тревога, почему она возникает и как проявляется в поведении человека. Некоторые исследователи и ученые считают, что это эмоциональное состояние, связанное с ощущением опасности или угрозы. Другие утверждают, что это лишь биологическая реакция организма на стрессовые ситуации. Классификация болезней предлагает нам перечни симптомов различных тревожных расстройств, но что это все-таки такое – не говорит. Лежит ли в основе тревоги нарушение химических процессов в организме? Или неосознаваемый внутренний конфликт? Или экзистенциальный кризис? Или лишь ошибки мышления? Пока нет однозначного ответа…
Поэтому я, пожалуй, обращусь к классике – словарю Ожегова. Читаем: «Тревога – сильное душевное волнение, беспокойство, вызываемое какими-либо опасениями, страхом, неизвестностью». Роскошное определение, очень красивое. Правда, не столько медицинское или психологическое, сколько литературное, но зато меткое. Обратите внимание на слова «опасения» и «неизвестность» – скоро мы увидим, что именно они играют ключевую роль в возникновении тревоги.
В целом есть ощущение, что литература преуспела в описании тревоги чуть ли не больше, чем психология или психиатрия.
Вот, например, мучается от неизвестности Петр Гринев из Пушкинской «Капитанской дочки»: «Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. <> Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников… Сердце мое сжалось… Я горько, горько заплакал…» Я уверена, что вам прекрасно знакома динамика процесса, которую описал Александр Сергеевич. Неизвестность, опасения – и вот уже готов кошмарный сценарий, который существует только в нашем воображении, зато переживания и слезы он вызывает вполне реальные.
А вот как размышляет Каштанка Чехова: «Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое». Здесь мы видим еще одну особенность тревоги: она умеет сама себя поддерживать. Раз мне тревожно, значит, точно произойдет что-то плохое – так рассуждает Каштанка. Скоро вы увидите, что, когда дело доходит до логики тревожных умозаключений, мы все немного Каштанка.