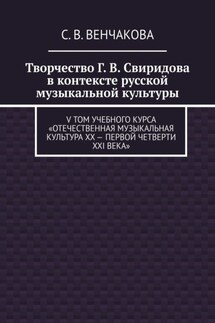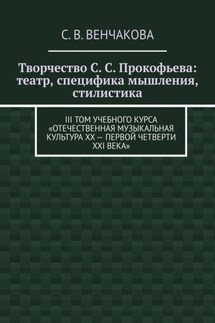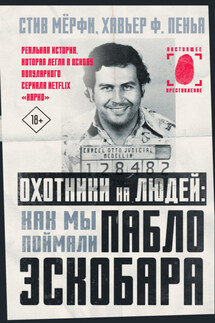Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 25
Прокофьев всегда добивался особой речевой выразительности в рамках вокальной декламации. Он использует прием разработки индивидуально-характерного, психологически насыщенного речитатива и внедряет в него развитые мелодические построения, вплоть до законченных ариозных эпизодов. Принципы объединения мелких и мельчайших эпизодов в крупные, логически организованные музыкальные пласты; роль ритмики и остинатных фигур, гармонии и оркестровых тембров как в плане общекомпозиционном, так и в плане создания конкретных образных характеристик; проблема претворения народно-песенных элементов – все эти факторы явились основными в инновационных критериях анализа опер Прокофьева, созданных на разных этапах творчества.
Прокофьеву в лучших его сочинениях, несомненно, удалось найти очень точные художественные средства создания современных лирических образов. Эта новая лирика находила своё выражение в светлых диатонических гармониях, в особой «прозрачности» солирующих тембров оркестра. Но, как уже отмечалось, определяющее значение приобретала новизна, свежесть мелодических линий, иногда кажущихся очень сложных, но всегда очень естественных. Мелодия у Прокофьева была особым выразительным средством для воплощения душевно-эмоционального начала в музыке. Так прослеживается преемственность вокального стиля Прокофьева, его декламационной манеры от традиции великих реформаторов русской оперы Даргомыжского и Мусоргского. Вслед за Мусоргским Прокофьев упорно работал над созданием реалистической русской оперы, основанной на острейшей динамике сценического действия и гибком претворении прозаического диалога. Построив свои ранние оперы по принципу сплошной декламации, впоследствии Прокофьев шёл по пути всё большего насыщения музыкальной ткани богатством вокального начала.
Прокофьев был исключительно внимателен к вопросам сценического воплощения своих опер, постановочного и авторского. По существу, новизна прокофьевского музыкального театра заключается в том, что это театр композитора-режиссёра. Прокофьев, выступая против инерции исполнительских штампов, которая может помешать верному донесению оперы, снабжает свои произведения множеством чисто «режиссирующих ремарок, поясняющих не только эмоциональное состояние персонажа, но и жестикуляцию, мизансценировку, детали интонирования словесного текста. Это продиктовано тем, что сами музыкальные образы возникают у него в связи с пластическим ощущением действия, рисунка каждой сцены, облика каждого персонажа. Так возникают интересные параллели с принципом «лепки» авторского образа у С. Станиславского; с «театром жестов» Б. Брехта.