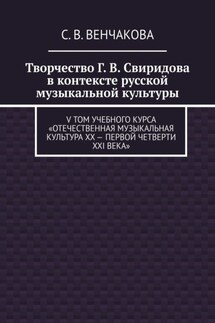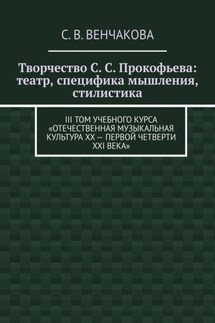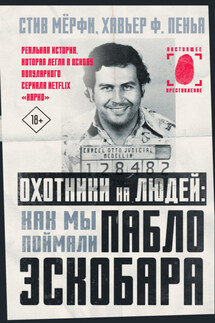Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 28
Структуры сцен в музыкальных спектаклях Прокофьева и его рассказы имеют родственные черты в плане обязательного наличия в экспозиции портретов главных действующих лиц. Они, как всегда, предельно лаконичны, так как обладают особой характеристичностью, типологической сконцентрированностью черт, присущей, в частности, лейтмотивам.
Е. Долинская рассуждает, приводя интересный пример драматургического решения одной из сцен оперы «Дуэнья», которая была придумана Прокофьевым, по сути, с нарушением законов лирической комедии, где экспозиция пьес эпохи Шеридана предлагала первыми вывести на сцену лирических героев. Прокофьев начинает оперу много острее – с галереи комедийных персонажей. Так, композитор и в литературном, и в музыкальном творчестве стремится начать произведение яркой портретной заставкой – броско, энергично, тем сразу задавая активный темпоритм.
В рассказах Прокофьева можно обратить внимание на обычно небольшое количество основных действующих лиц и на нередкое включение в локальные эпизоды внушительного числа второстепенных героев. Это явление сродни феномену «театра в театре», к которому охотно прибегает композитор в музыкально-сценических произведениях. Достаточно сослаться для примера на участников сцены рулеточной игры в «Игроке» (2-я картина IV действия). Используя главнейшие характеристические черты каждого из действующих лиц, Прокофьев создаёт для любого участника что-то вроде «словесной маски». Подобное определение предлагается здесь по аналогии с близким по смыслу термином «интонационная маска» М. Арановского, фиксирующим закреплённость за героем портретирующих интонаций. Именно такими приёмами будут зафиксированы портреты участников «театра в театре». Так, в сцене рулетки в «Игроке» присутствуют блицпортреты: Удачливый игрок, Неудачливый игрок, Дама так себе, Сомнительная старушка и др.
Универсальность ведущих закономерностей драматургии Прокофьева многократно подтверждена использованием идентичных принципов в строении некоторых рассказов и структуры отдельных оперных сцен. Так, рассказ «Ультрафиолетовая вольность» написан в трёхчастной форме с кодой, отражающей материал середины (