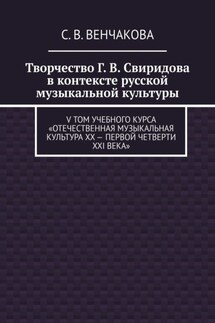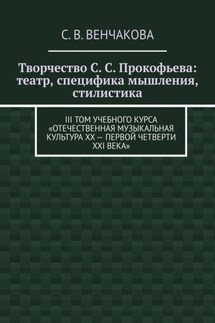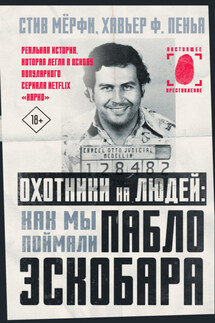Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 33
Первое действие является экспозицией оперы; каждая ситуация, как центральное драматургическое звено становится внутренним стимулом движения сюжета и идеи. Каждая ситуация чётко разграничена, есть и основные группы действующих лиц: друзья Принца, его враги; каждой группе помогают стоящие над ними магические силы, составляющие третью группу персонажей. Первая картина первого действия очень компактна: тема королевского величия (хорал шести валторн) и выход Короля; хор медиков (информация о состоянии Принца – этот фрагмент оперы буквально пронизан иронией и составляет конструктивно законченный номер, подчёркивающий важность момента); следующее звено в развитии действия – непосредственная реакция Короля и Пантолоне на роковой приговор медиков. Музыкальное решение этого момента потребовало гиперболизации традиционных выразительных средств, так как переживания здесь изображаются с помощью пародии. Подобный приём «эмоциональной изобретательности» широко использован в дальнейшем развитии оперы. Как известно, принца может вылечить только смех; эта идея становится основным двигателем и сюжетного и музыкального развития, раскрываясь через сферу подвижной скерцозности. Заключительный раздел I картины обладает драматургической многоплановостью: высказывания Короля, который принял решение испробовать силу смеха, поверил в исцеление Принца и вновь обрёл царственное величие; первое появление хитрого Леандра – зловещей фигуры, он старается победить решимость Короля. Так, I картина представляет собой образец интересного сочетания ряда конструктивных звеньев с индивидуальным эмоциональным тоном, типом и темпом движения музыки в прямом соответствии с характером сценической ситуации.
Вторая картина словно пересекает повествовательное развитие действия, тем самым напоминая композицию некоторых литературных произведений: сцена игры в карты мага Челия и Фаты Морганы, причём от исхода этой игры будет зависеть жизнь или смерть наследника престола. Эта сцена в развитии первого действия оперы занимает особое место, находясь среди условно реальных I и III картин первого действия. Для музыкального решения этого момента оперы Прокофьев подключает большой набор выразительных средств и приёмов, преемственно связанных с богатейшими традициями русской музыкальной сказочности, особенно с оперным творчеством Римского-Корсакова. И всё же, соприкасаясь в «Любви к трём апельсинам» с миром прокофьевской фантастики, всё время присутствует ощущение новизны – настолько необычно и своеобразно музыкальное мышление композитора.
Для русской оперной (и не только оперной) сказочности XIX века характерно перенесение в область музыки образов и жанров, связанных с народным творчеством: сказок, легенд, былин, эпических сказаний и др. Среди произведений Прокофьева раннего периода творчества с этой линией соприкасаются «Сказки старой бабушки» и «Гадкий утёнок». «Фантастика „Любви к трём апельсинам“ имеет другие истоки: она связана не с литературными, а с театральными формами народного творчества, не с повествованием, а с представлением» [22, с. 63]. Примечательно, что кроме необычного музыкально-сценического оформления, в этой картине содержится наиболее полное выражение некоторых драматургических особенностей, характерных для всей оперы: полное соотношение слова, действия и музыки. Эти аспекты являются естественными для жанры оперы (компоненты которой: действие – слово – музыка), но трактовка этого жанра Прокофьевым на момент создания «Любви к трём апельсинам» уже имела некоторые особенности. Прокофьев всегда уделял предельное внимание