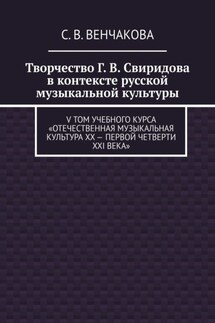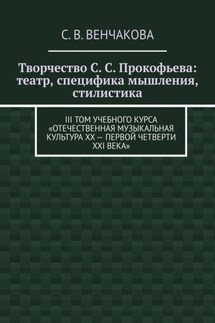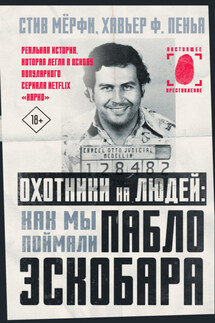Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 8
Возвращаясь на Родину, Прокофьев искренне поверил в возможность продуктивной творческой работы. «Горячо любя Россию и устремляясь к ней всей душой, с присущей ему оптимистической верой в лучшее, Прокофьев тогда ещё не понимал, в какой мере заблуждался относительно счастливой судьбы советских композиторов, особенно Н. Мясковского, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, В. Шебалина и др., и относительно своей собственной судьбы. В ту пору он ещё не мог предположить, что стальная рука власти через несколько лет „перекроет кислород“ его современникам и ему самому» [8, с. 53].
Последний период творчества (1934 – 1953) отмечен многими исследователями как наиболее успешный. Именно в это время композитор достиг особой высокой простоты стиля, к которой он стремился на протяжении предшествующих лет. Ещё находясь за рубежом, Прокофьев гастролировал в СССР в 1927, 1929, 1932 годах. Созданные в последний период творчества сочинения по праву вошли в золотой фонд мировой музыкальной классики: балеты «Ромео и Джульетта» (1935 – 1936); «Золушка» (1940 – 1944); «Сказ о каменном цветке» по сказам П. Бажова (1948 – 1950); кантата «Александр Невский» (1939); симфоническая сказка для детей «Петя и волк» (1936); оперы «Семён Котко» по повести В. Катаева «Я, сын трудового народа» (1939); «Война и мир» по роману Л. Толстого (1941 – 1952); оратория «На страже мира» на сл. С. Маршака (1950); триада фортепианных сонат – Шестая A-dur (1939 – 1940); Седьмая B-dur (1939 – 1942); Восьмая B-dur (1939 – 1944); Девятая С-dur (1947); Пятая симфония B-dur (1944); Шестая симфония es-moll (1945 – 1947); Седьмая симфония cis-moll (1951 – 1952).
Прокофьев принадлежал к числу художников, не склонных к теоретическому обоснованию своих принципов. Многие оправдавшие себя художественные средства, найденные на раннем этапе творчества, сохранялись в его арсенале до последних лет, совершенствуясь и подчиняясь новым требованиям. «У меня нет никакой теории, – ответил как-то Прокофьев на вопрос о сущности его музыкального новаторства. Он считал, что «теоретизирующий» композитор, изобретая искусственные догмы, тем самым сковывает свою фантазию – «с того момента, как художник сформулирует свою «логику», он начинает ограничивать себя», – говорил Прокофьев. Смысл своего новаторства он объяснял не какой-либо умозрительной системой, а стремлением к наиболее точному выражению увлекавших его идей. «Я всегда чувствовал потребность самостоятельного мышления и следования своим собственным идеям… Я никогда не хотел что-либо делать только потому, что этого требуют правила» [цит. по 13, с. 600]. В исследованиях советского периода встречаются утверждения, что «простота» высказывания, о которой Прокофьев часто говорит в статьях и интервью середины и второй половины 30-х годов, и которую он понимает прежде всего как «ясность и мелодичность языка, созвучного эпохе социализма», но не как упрощённость и подлаживание под аудиторию, даётся Прокофьеву не сразу и не во всех жанрах в равной мере. Жанр массовой песни, например, он так и не освоил. И всё же опыты в сфере песни оказались весьма плодотворными для дальнейшего развития советской песни-романса в плане расширения границ жанра. Эти опыты, равно как и обработки народных песен, которыми Прокофьев много занимался в те годы, отразились на языке ряда крупных произведений – музыке к кантате «Александр Невский», опер «Семён Котко», «Война и мир», и многих других шедевров советского периода.