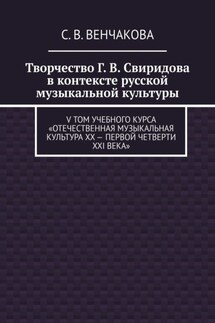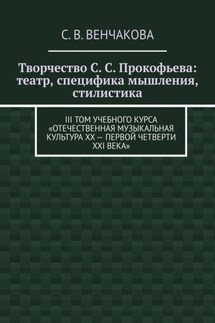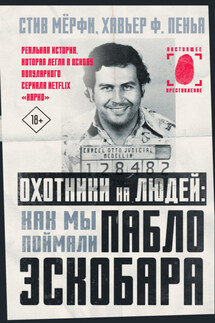Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века» - страница 9
Ученические годы Прокофьева совпали с периодом расцвета творчества Рахманинова (до эмиграции), и последними годами жизни и творчества Скрябина. У Рахманинова он отмечал особую природу мелодизма, лирику; влияние Скрябина в области гармонии прослеживается в ряде ранних сочинений Прокофьева. Тяга молодого композитора к сказочным и фантастическим образам, продолжающая традиции многих русских классиков, была созвучна творчеству ряда поэтов и художников рубежа XIX – начала XX веков. Впоследствии Прокофьев находился в естественном русле явлений художественной жизни Запада, вкусов и настроений музыкальных кругов интеллигенции Парижа, где он обосновался с 1923 года. Установились тесные контакты с композиторами «Французской шестёрки» – Ф. Пуленком, А. Онеггером, Д. Мийо, с которыми Прокофьев много выступал в рамках концертных программ. Тонкий художественный вкус Прокофьева, взращённый на классическом наследии, направил искания композитора в русло мирискустничества, к содружеству с А. Бенуа и С. Дягилевым, утвердившим приоритет зрелищных видов искусств в столице мировой моды – Париже. В рамках работы «Русских сезонов» С. Дягилева были представлены «Жар-птица» И. Стравинского и некоторые другие его неофольклорные балеты; прокофьевские «Скифская сюита» (первоначально эта работа называлась «Ала и Лоллий») и балаганно-эксцентричный балет «Шут».
Современные исследователи отмечают, что «в начале творческого пути Прокофьев был весьма далёк от лирической исповедальности, свойственной романтизму. Если судить по его ранним операм „Маддалена“, „Игрок“, „Огненный ангел“, сюжеты которых наиболее приближены к романтической поэтике, композитору удаётся встать над романтическим эмоционализмом, подчёркивая свою отстранённость от психологических рефлексий, на которые провоцируют драматические, порой, экспрессионистские сюжетные ситуации. Их эмоциональному гипнозу, втягивающему слушателя в чувственное сопереживание, в музыке Прокофьева противостоят своеобразные заградительные барьеры в виде гротесковых авторских комментариев, переключающих внимание на объективное, рациональное, аналитическое восприятие» [16, с. 44]. «При всей дерзости антиромантических выпадов молодого автора романтизм остался одним из неявных, но глубоко лежащих свойств его натуры. Иначе нельзя объяснить ни экспрессионизм „Огненного ангела“, ни изысканно импрессионистическую лирику „Мимолётностей“, ни прогрессирующий эмоционализм поздних опусов. Романтическая constanta личности Прокофьева проявилась и в поэтизации образов старины, наряду с моментами юмористического обыгрывания их» [цит. по 16, с. 46]. Эта оценка романтического у Прокофьева естественно соотносится с классико-романтической сутью эпического в творчестве композитора.
В 30 – 40-е годы в творчество Прокофьева, пережившего личную трагедию, всё заметнее проникает драматическая образность как отклик на события современности. И даже в этой ситуации лирика Прокофьева, «бескрайняя в эмоционально-образных оттенках, утверждающая классические идеи прекрасного, сама становится символом красоты, гармонии, нетленности мечты и противостоит дисгармонии XX столетия» [16, с. 46]. Прокофьев всегда оставался объективно мыслящим художником, не позволяя трагическому стать критерием жизни, подавив вечное.
Анализируя на новом историческом этапе многие процессы, происходившие в русле советского общества на различных этапах его существования, русские и зарубежные исследователи находятся на разных идеологических позициях, объективно сравнивая различные явления. Прокофьев явился современником многих исторически глобальных событий – Октябрьской революции, Гражданской и Великой отечественной войн, пережил период эмиграции. Он никогда не шёл на поводу чужих художественных вкусов, всю жизнь отстаивая своё право на независимость взглядов и оставался до конца