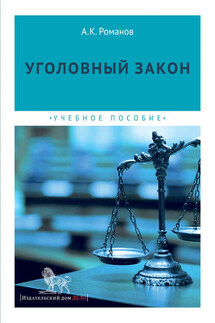Уголовный закон - страница 40
Законодатель – это тот, кому право известно как правда о правоведении. Относительно понимания права как правды закона следует принять во внимание мысль Н. Д. Арутюновой, которая отмечает следующее: «Истинностная оценка суждений заставляет задуматься над понятием истинности, представленным в русском языке двумя словами: истина и правда, разделяющими объективный мир (или его прообраз) и мир человеческой жизни»[92]. Право, таким образом, своим источником имеет мир человеческой жизни.
Правопонимание в рамках континентальной юридической традиции и системы требует умения обращаться с письменной речью. Она представлена в законе. Правопонимание в рамках прецедентного права рассчитано на навыки в рамках устной речи.
Законотворчество не сводится только к составлению текста законодательного акта. Не меньшее значение имеет формирование смыслового содержания. Законодатель в законе выступает как носитель письменной культуры. Как видим, законотворческая деятельность – это не литературный жанр, а отражение в сознании человека правоведения как особой внеречевой действительности. Задача юридической науки – в том, чтобы осознать, в чем состоит правоведение и как оно проявляется эмпирически.
В законе содержится запись речи законодателя. Ему открыта норма правоведения, известны особые правила, соблюдение которых является непреложным. Этим законы и ценны: в них сообщается, как надлежит действовать тому, для кого правоведение это не только слово. В отличие от произведений литературного жанра в законе не переплетаются вымысел и реальные события и обстоятельства. Для законодателя все, о чем он говорит, – реальность.
Согласно общепринятому в юридической науке определению уголовный закон представляет собой «политическое решение в юридической форме. Каждая группа специалистов вносит в его реальное состояние свой вклад, но ни одна группа и ни один специалист не могут считать себя авторами уголовного закона. Им является действующий в данной стране и в данное время законодатель»[93].
Понятию уголовного закона в литературе по уголовному праву уделяется значительное внимание[94]. Однако, как было показано выше, по вопросу о том, что собой представляют уголовные законы, каковы их действительные свойства и назначение, могут быть высказаны разные гипотезы. Закон и право соотносятся как суждения о тех явлениях, которые имеют важное значение для жизни общества, и сами эти явления. Вследствие этого требования юриспруденции должны состоять не в том, чтобы законы были понятны, а в том, чтобы они были поняты. Если закон остается непонятым, это проблема не законодателя, а толкователя и правоприменителя.
Мы видели выше, что любой закон, в том числе закон уголовный, представляет собой речь законодателя, которая излагается в письменной форме. Раз так, то закон можно рассматривать как совокупность предложений. В логическом отношении в своем нуклеарном виде уголовный закон можно свести к имени. Что это значит? А вот что. «Предложение тоже является именем, значением предложения является истина или ложь <…>,– отмечает Ю. В. Ивлев. – Рассмотрим предложение: “Птолемей считал, что Солнце вращается вокруг Земли”. Оно истинно. Заменим имя “Солнце” на имя “центральное тело Солнечной системы”, имеющее то же значение. Получим ложное предложение»[95].
Такие же метаморфозы нередко характерны и для практического обращения с законом. Вследствие этого юриспруденция нередко оказывается не наукой о праве, а сводится лишь к замене слов закона другими имеющими такое же значение, что и в законе, но ложными словами. В результате юриспруденция как истинное предложение (т. е. сказанное о сказанном законодателем) подменяется ложным предложением. Юриспруденцией могут признаваться лишь истинные предложения (сказанное о сказанном в законе). К закону неприменим логический критерий истинности или ложности: закон – это и есть сказанное законодателем». Истинной или ложной может быть только юриспруденция.