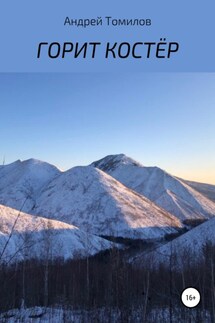Улисс - страница 20
И, может, именно в этот момент священик на соседней улице подъемлет его. Динь-динь. А ещё через две улицы другой запирает его, в дарохранительницу. Чик-динь! А следующий в ризнице за алтарём вливает священое вино себе за щеку. Буль-динь! Вниз, вверх, вперёд, назад. Дэн Оккам задумывался об этом, непобедимый схоласт. Туманным английским утром бесёнок ипостаси щекотал его мозг. Опуская ковчежец вниз и становясь на колени, слышал сдвоенный с его вторым звяком первый звяк на клиросе (он возносит свой) и, по ходу, слышал (теперь я поднимаю) как их два звяка (он на коленях) бренчат дифтонгом.
Кузен Стефен, тебе не светит выбиться в святые. Хоть был до жути набожным, не так ли? Молил Пресвятую Деву, чтоб у тебя сошла краснота с носа. Молил дьявола на Серпентин-Стрит, чтоб коренастая вдова впереди ещё повыше вздернула подол от мокрой мостовой. O, si certo! Продай за это свою душу, валяй! За крашеные тряпки наверченные на бабень. Ещё, ещё поведай! На верхнем ярусе трамвая, в одиночку, кричал дождю: ГОЛЫХ БАБ! Ну, как?
А что такого? На что ещё они созданы? Читать по две странички из семи книг каждый вечер, а? Я был юн. Или как ты кланялся себе в зеркале, готовясь к взаправдашним аплодисментам и, ступив вперёд, врезался лицом в стекло. Урра! несчатному кретину! Уря! Никто не видел – никому не болтай. Книги, что ты собирался написать с буквами вместо названий. Вы читали его К? О, да, но мне больше нравится его Р. Да, но согласитесь, М у него просто бесподобна. О, ну ещё бы, М! И вспомни, заодно, задумку про свои откровения на овальных зелёных листах, да чтоб копии были разосланы во все великие библиотеки мира, включая Александрийскую. Чтобы кто-то прочёл их там через пару тысячелетий, махаманватара спустя. На манер Пико делла Мирандолы. Угу, точь-в-точь. А всё-таки, когда читаешь эти чужие страницы кого-то из давно ушедших, возникает неодолимое ощущение единения с тем кем-то, что когда-то…
Зернистый песок ушёлиз-под его ног. Ботинки снова ступали по влажной трескучей скорлупе ракушечьих створок, по скрипучей гальке, по обломкам дерева обшарпаного о неисчислимые камушки, источеного корабельными червями, разгромленная армада. Местами полосы песка таились в засаде, всосать его шагающие подошвы, испуская душок канализации. Он огибал их утомлённым шагом. Увязнув по пояс, вытарчивает винная бутылка, облипла коркой присохшего песка. В дозоре: остров наижутчайшей жажды. Разбитые обручи на берегу; ещё выше, вне досягаемости прилива, лабиринт коварных тёмных сетей; позади них исчёрканные мелом двери чёрных ходов и—на верхнем пляже—бельевая верёвка с парой распятых рубах. Рингсенд: вигвамы мускулистых рулевых и искусных мореходов. Людские раковины.
Он остановился. Пропустил где надо было свернуть к дому тётки. Значит к ним не пойду? Похоже, нет. Вокруг никого. Он повернул к северу и пересёк плотный песок в направлении ГОЛУБЯТНИ.
– Qui vous a mis dans cette fichue position?
– C'est te pigeon, Joseph.
Патрис приехал на родину в отпуск, прихлёбывал со мной тёплое молоко в баре МакМаона. Сын дикого гуся, эмигранта, парижского Кевина Эгана. Мой папа птичка, прихлебывал