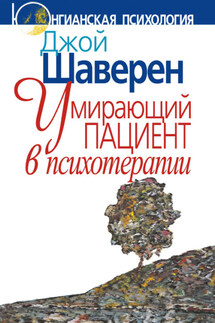Умирающий пациент в психотерапии: Желания. Сновидения. Индивидуация - страница 12
Имела место и сильная эротическая связь, которая была истолкована Макдугалл в терминах психологии развития как любовь девочки к своей матери. Очевидно, по мере приближения смерти пациентки давление эроса и жизненной силы быстро возрастало, и это обстоятельство, по-видимому, свидетельствует об активном воздействии психики на процесс индивидуации. Пациентка должна была вернуться к жизни прежде, чем умереть.
Примечательно, что в четырех из приведенных выше случаев аналитик и пациент были женщинами. Знаменательно также то, что эти пациентки были замужем, и мужья принимали в их судьбе активное участие. Эта ситуация отличается от случая пациента, описанного ниже. Так же, как и у анализанда Боснака, у пациента в то время не было партнера, и поэтому аналитическое партнерство заняло центральное место в его жизни. Образование пары мужчина – женщина усилило эротический перенос, в котором инфантильная регрессия поначалу была неотличима от гетеросексуальной страсти.
Похожая эротическая интенсивность, по-видимому, констеллировалась в случае, который был описан терапевтом Ли (Lee, 1996), использовавшим музыку. Ли описал свою работу с музыкантом, заболевшим СПИДом. Необычность, а возможно, и противоречивость его книги заключается в том, что к ней прилагаются записи на компакт-диске игры пациента на пианино во время аналитических сессий. На одних занятиях терапевт и пациент вместе играют в четыре руки, на других пациент играет, а терапевт слушает его. Ясно, что такая игра не была терапевтическим взаимодействием, но не менее ясно и то, что границы этого взаимодействия подвергались предельной проверке любовью, возникшей в процессе терапии. Пациент Ли, как и мой пациент Джеймс, был холостяком, и жизни его не хватало наполненности. Ли пишет, что приближающаяся смерть вызвала у пациента интенсификацию процесса индивидуации, и тогда аналитик отказался от терапевтической установки и согласился удовлетворить просьбу пациента относиться к нему по-дружески. Действия терапевта в ответ на просьбу пациента с учетом обстоятельств его болезни можно истолковать в аналитических терминах как отреагирование. Этот случай служит примером тех потрясающих противоречивых эмоций, которые могут возникать у аналитика при взаимодействии с тяжело больным пациентом. Таким образом аналитик вовлекается в архетипически заряженное состояние, при котором трудно сохранить рациональное мышление. Особенно огорчительным для аналитика является то обстоятельство, что пациент не прожил свою жизнь во всей полноте или умирает относительно молодым. Более того, когда у пациента нет партнера, на плечи аналитика ложится дополнительное бремя и ему трудно противиться желанию отказаться от аналитической установки.
Сказанное приводит к серьезным вопросам относительно завершения терапии тогда, когда пациент умирает. Ясно, что не существует никаких правил, и, как мы уже убедились, каждый случай необходимо оценивать в определенный момент и при полном знании рассматриваемой ситуации. В одних случаях установление дружеских отношений с пациентом может оказаться наиболее эффективным терапевтическим решением, а в других случаях, когда работа представляется аналитику завершенной, наиболее приемлемым может оказаться дистанцирование. В случаях, описанных Уилрайт, Боснаком, Уланов, Минербо и Макдугал, и в случае, обсуждаемом в этой книге, продолжение психотерапии до полного завершения может оказаться в интересах пациента. Однако поскольку нет правил и конкретных указаний, решение в каждом случае должно приниматься отдельно.