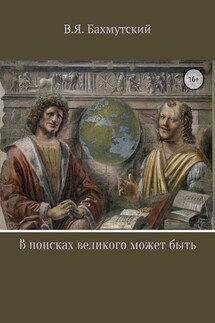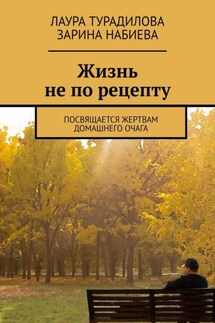В поисках великого может быть - страница 60
1 Вот острохвостый зверь, сверлящий горы,
Пред кем ничтожны и стена и меч;
Вот кто земные отравил просторы".
4 Такую мой вожатый начал речь,
Рукою подзывая великана
Близ пройденного мрамора возлечь.
7 И образ омерзительный обмана,
Подплыв, но хвост к себе не подобрав,
Припал на берег всей громадой стана.
10 Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт приветливых и чистых,
Но остальной змеиным был состав. (110)
(Ад. Песнь семнадцатая. 1-12)
Здесь достаточно ясно выступает аллегорическая составляющая: у обмана приятное лицо и змеиная суть. Но дальше следует такое описание Гериона:
13 Две лапы, волосатых и когтистых;
Спина его, и брюхо, и бока -
В узоре пятен и узлов цветистых.
16 Пестрей основы и пестрей утка
Ни турок, ни татарин не сплетает;
Хитрей Арахна не ткала платка. (111)
( Ад. Песнь семнадцатая. 13-16)
Затем Данте видит ростовщиков, и возникает такая картина:
55 У каждого на грудь мошна свисала,
Имевшая особый знак и цвет,
И очи им как будто услаждала.
58 Так, на одном я увидал кисет,
Где в жёлтом поле был рисунок синий,
Подобный льву, вздыбившему хребет.
61 А на другом из мучимых пустыней
Мешочек был, подобно крови, ал
И с белою, как молоко, гусыней. (112)
(Ад. Песнь семнадцатая. 55-61)
Причудливому, подчеркнуто пёстрому узору шкуры Гериона как бы вторит многоцветие флорентийского рынка. Каждый из ростовщиков носит на груди мошну, имеющую свой особый знак отличия и окраску, и это тоже создаёт довольно прихотливую картину. Но и это ещё не всё. На хребте крылатого Гериона Данте переносится из седьмого круга Ада в восьмой. Как известно, до изобретения первых летательных аппаратов люди могли себе представить полёт только на волшебных коврах, а здесь само чудовище выступает как ковер-самолет. Рождается такой многоплановый, необычный аллегорический знак. Образ, который творит Данте, с одной стороны, сугубо символичен, а с другой – представлен настолько выразительно и конкретно, что мы ощущаем аллегорию как нечто абсолютно реалистичное.
И, наконец последний момент, который хотелось бы пояснить. Дело в том, что старая литература всегда изображала прошлое – историческое или же мифологическое, и Данте в своей поэме тоже обращается к прошлому, поскольку это мир мёртвых. Но в «Божественной комедии» исчезает то очевидное ощущение временной дистанции, которое было свойственно образам прошлого в произведениях его предшественников. Прежние авторы изображали персонажей ушедших эпох героями иного плана – не того мира, в котором жили сами.
Пушкин в «Евгении Онегине», как бы формулируя принципы нового романа, пишет:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня. (113)
«Добрый читатель», «мой приятель» – такого не решился бы сказать, допустим, автор «Песни о Роланде» или же создатель рыцарского романа. Даже Шекспир не мог так отозваться ни об одном из своих персонажей. А Данте может. В «Божественной комедии» он представляет своих друзей. Он изображает Франческу да Римини, свою современницу, точно так же, как легендарных цариц древности Семирамиду или Клеопатру, да и с мифологическими героями беседует запросто, как, к примеру, с Улиссом. Улисс для Данте – «добрый приятель». В этом смысле с «Божественной комедии» Данте действительно начинается литература не только Нового, но и Новейшего времени. Правы были те, кто утверждал, что в произведении Данте заложено всё последующее. «Божественная комедия» – великий финал Средневековья, но и великий исток всей будущей европейской литературы.