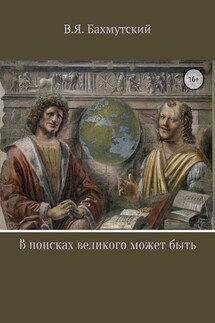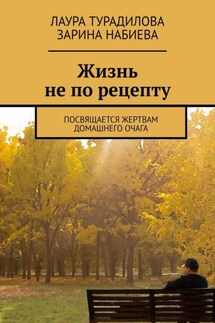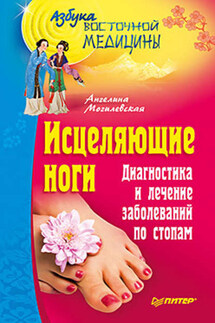В поисках великого может быть - страница 62
Человек в этой новой картине мира занял почти что то же самое место, хочу подчеркнуть это слово – почти, какое в средневековом мире занимал Бог. Ренессанс не был атеистическим, и в существовании Создателя никто не сомневался. Изменилось отношение к природе. Природа перестала восприниматься как некое низменное, греховное начало. На первый план выступила идея, так называемой великой цепи бытия, которая звучала уже в Средневековье: представление о том, что начало всему – Господь, за которым следуют девять ангельских чинов: серафимы, архангелы… Далее – человек, он в центре, а затем – животные, растения, минералы… То есть человек занимает в этом ряду срединное положение. Бог, создавая наш мир, хотел бы, чтобы духовное и природное слились в нём в единое целое, но достигается это лишь в человеке, поэтому человек сложнее бесплотных ангелов, которые лишь духовны и, разумеется, выше животных… Он почти равен Богу. Не равен, но почти равен. Дух и материя в нём слиты воедино – это есть нечто священное, к чему стремился в своём творении сам Господь.
Вообще, важная особенность этого нового понимания человека связана с представлением о самом Творце. Бог всемогущ, и его воля ничем не ограничена. Для него не существует никаких преград… Но та же возможность творить, то же мощное созидательное начало заложено, по мнению мыслителей Ренессанса, и в человеке. Известный итальянский гуманист и философ Пико делла Мирандола (1463—1494) в своей «Речи о достоинстве человека» писал: «Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: "Не даём мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стеснённый никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать всё, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные. <…> О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет!» – заключает философ. (Перевод Л.Брагиной).
Для человека нет ничего невозможного. Он – творец самого себя, хозяин своей жизни. Он сам определяет границы собственной природы и потому почти равен Богу. Для остальных существ всё предопределено. Только человеку дан выбор, предоставлена эта божественная свобода. Ангелы всегда остаются лишь ангелами, посланниками, исполнителями божественной воли, а человек по своей собственной воле может пасть, а может и вознестись. Поэтому в картине мироздания человек занял особое, почти равное Богу место. Он стал мыслиться как некое высшее создание, дитя природы, творение Бога…
В Средние века люди видели свою основную задачу в том, чтобы преодолеть всё плотское и земное. Человек представлялся существом, которое должно победить в себе земные устремления. А Ренессанс провозгласил идеал гармонии духовного и телесного. Эта цель была столь же трудно достижима, как для человека Средневековья – отрешение от страстей. Это тоже требует огромных усилий воли и духа, но это – другой идеал.