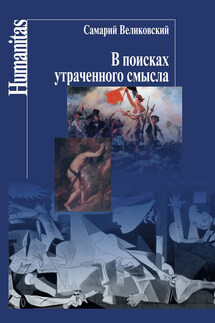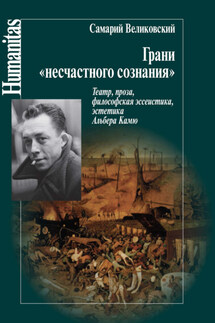В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков - страница 23
Потому-то впечатление странной двусмыслицы исходит и от «высеченных из камня, литых из бронзы» (Луначарский) зарисовок природы у Леконт де Лиля: ведь все вещественные явления тут же бывают истолкованы им как призрачная мнимость, и, следовательно, причаститься к ним – значит для него не столько сподобиться пантеистической благодати, сколько «семижды окунуться в божественное ничто». В подобных случаях он самим ходом описаний приглушает, как бы изымает жизнь у зримо, предметно поданных материальных ликов вселенной – они у него иссушены зноем, объяты дремой, томительно цепенеют, мертвенно стынут:
«Полдень». Перевод И. Поступальского[23]
От безутешных приговоров никчемной маете человеческих дел и упований, а заодно и вселенскому круговороту бытия-небытия Леконт де Лиль нет-нет да и порывался, правда, к мятежному богоборчеству или растроганным воспоминаниям о собственном детстве среди щедрот тропи ческой природы. И быть может, именно этой неспособности всегда и до конца выдерживать вмененную себе в заслугу хладнокровную неприязнь ко всему на свете, кроме окаменело неживой Красоты, обязаны мастерски сработанные стихотворные изваяния Леконт де Лиля тем, что в них местами сквозь кованые строки и поныне мерцает порой живое свечение.
Кустарная чеканка
Жозе-Мария де Эредиа
Рядом с дюжим ваятелем Леконт де Лилем его ближайший ученик и преданный друг Жозе-Мария де Эредиа (1842–1905) выглядит золотых дел мастером. Обосновавшись на парижском «Парнасе» по приезде с Кубы, где он родился и вырос, Эредиа на протяжении тридцати лет с не спешной кропотливой взыскательностью умельца-ремесленника гранил сонетные миниатюры единственной своей книги «Трофеи» (1893)[24] – собственной малой «легенды веков», домашнего музея древних цивилизаций. Безошибочное чутье эрудита в отборе мифологических, археологических, географических примет и в подаче каждой мелочи так, чтобы побудить к домысливанию вширь; светящаяся красочность скупых мазков и богатая полнота созвучий; просодическая гибкость при строжайшем следовании сонетному канону; тонкий вкус и изящество всей работы – собрание как бы перелитых в слова старинных монет, любовно составленное знатоком и ценителем древностей Эредиа, волей-неволей наводит на мысль об искусном рукомесле чеканщиков.
«На Старом мосту». Перевод В. Портнова