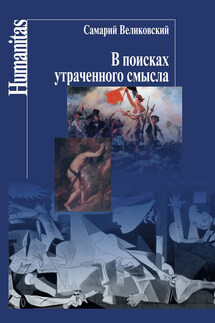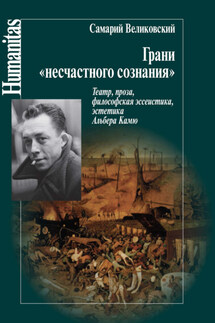В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков - страница 43
«Дневной Париж». Перевод М. Яснова
Зато доброе слово соболезнования всегда находится у Корбьера для таких же, как он, гостей на чужом и чадном пиру – нищих бродяжек, уличных попрошаек, горемык. Но даже собственным сердечным порывам этот без вины виноватый не доверяет, молясь богохульно, предвкушая смерть с нежностью и рыдая с подхохатыванием. Оттого и любовь Корбьера крученая-верченая – «желтая», желчно искрив ленная, как sourire jaune – принужденная кривая ухмылка. Отчаявшийся юморист Корбьер осыпает святыни и самого себя бурлескными каламбурами тем беспощаднее, что у него неистребимая потребность чему-то лучезарному поклониться, к чему-то отрадному прислониться, чем-то себя убаюкать.
«Эпитафия». Перевод В. Орла
Вся эта гремучая душевная смесь не терпит гладкой упорядоченности. Она взрывается, выплескивается, взламывая и дробя ритм, синтаксис, самую мысль разговорными перебивками, возвратными ходами, пропусками связующих смысловых звеньев, назывными перечислениями-вскриками вместо последовательно развертывающихся периодов. Вольность обращения Корбьера с устоявшимися просодическими правилами смущала иной раз даже тех, кого не заподозришь, как перекликавшегося с ним Лафорга, в особо послушном чистописательстве. Но так было лишь до рубежа XIX–XX вв. – пока во Франции не приучились считать обязательным для стихотворчества только одно правило: соответствие строя высказывания неповторимости высказываемого.
Улыбающееся упадочничество
Жюль Лафорг
Жюль Лафорг (1860–1887) среди «прóклятых» – единственный, кто не сторонился кружка, участники которого гордо приняли предназначенную их уязвить кличку «декаденты», а к ним примыкал.
Родом Лафорг был из Монтевидео (Уругвай) и учился в городе Тарбе в Пиренеях, прежде чем попасть в Париж. Свести концы с концами, зарабатывая пером, здесь не удавалось, зато подвернулся случай поступить домашним чтецом к матери кайзера, и Лафорг шесть лет пробыл в Гер мании, где увлекся мрачной в своих приговорах жизни как суете сует философией Шопенгауэра; во Францию он вернулся за год до смерти от скоротечной чахотки.
Жюль Лафорг. Рисунок Горвеля
Рисованной заставкой к сочинениям Лафорга – как прижизненным: «Заплачки» (1885), «Подражание богоматери нашей Луне» (1885), так и посмертным: «Цветы доброй воли» (1900), «Рыдание Земли» (1901) – могла бы послужить мелькающая там повсюду маска-автопортрет клоуна с печальной улыбкой. Он грустен томительно, беспросветно, будучи раз и навсегда уверен, что его жребий – заведомое поражение. И тем не менее, стесняясь своего заразительного уныния, застенчиво пряча ущербную ранимость, он старается постоянно подтрунивать и над собой, и надо всем подлунным миром. Игра зеркал – удрученности и самоиздевки – смягчает чересчур едкую горечь и начиняет шутку жалобой. Усмехающееся упадочничество Лафорга отправляется от вечно гложущего личного злополучия, но обычно получает вселенский, космический размах. И тогда тщета собственных бескрылых упований предстает еще смехотворнее, еще плачевнее: