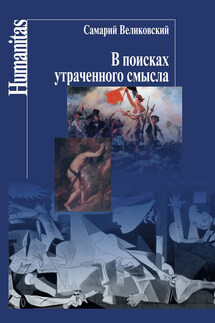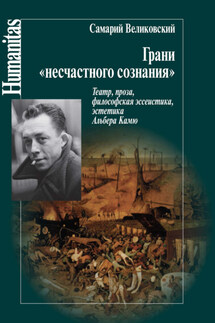В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков - страница 47
Подспудное исповедальное томление «Песен Мальдорора» не делает их, однако, исповедью, даже завуалированной. Неповторимость Лотреамона в том, во-первых, что трудное, сбивчивое и не всегда успешное отпочкование личности запечатлевается им не умозрительно, как это многажды дела лось вслед за Блаженным Августином или Руссо, не в виде раздумий-воспоминаний о ранее случившемся, уже миновав шем, а в виде записи случающегося с мыслью и воображением сегодня, сейчас, в момент писания: «Я образую мой ум по мере того, как выстраиваю звено к звену мои думы». И в том, во-вторых, что орудия Лотреамона не аналитичны, а совершенно непосредственны: они являют собой вихрение образно-стилевых потоков, пересекающихся, сливающихся, накладывающихся один на другой, расщепляющихся на рукава. У Лотреамона, так и не успевшего по молодости лет пробить как следует брешь в действительную, некнижную жизнь, оставшегося навсегда одним из тех, кого зовут литера тором для литераторов[35], нет в запасе взвешенных, обдуманных, выстраиваемых в ряд доводов. То, чем он располагает, притом наделен поистине щедро, – редкостное врожденное чутье и мастерство слова, дар вживаться в уклад бытующих художественно-речевых пластов, докапываться до их духов ной первоосновы и по-своему их перерабатывать. Сопряженность усеченного повествования и буйно разлившегося лиризма в «Песнях Мальдорора» поэтому не причуда, а работающий рычаг, посредством которого нащупывается и из влекается желанное прозрение. В свою очередь, каждый из двух этих жанровых ключей – смыслонесущее сращение привычного, издавна закрепленного за тем или иным приемом значения и вкладываемого туда в данном случае личного запроса.
Лотреамон. Рисунок Феликса Валлотона. 1898
К этим двум основным линиям письма добавляется еще и третья, обозначенная с первых же строк, но набирающая свою полновесность ближе к концу: встроенное в речевую ткань своего рода «метаобсуждение» ее лада, хода, отдельных оборотов. Голос сочинителя, так сказать, троится. Неведомая самому Лотреамону, но страстно искомая им истина о себе и брезжит временами в зияниях между подголосками, когда они расходятся. И пусть она на поверку оказывается очередным миражом, в глазах уверенного в ее подлинности она достойна того, чтобы быть высказанной впрямую как исповедание обретенной веры. Но это уже в другой книге, написанной личностью, которой мнится, будто она состоялась, сумела сделаться ясной для самой себя и теперь можно без колебаний поставить на обложке свое настоящее имя – Изидор Дюкасс.
Лотреамон-повествователь в «Песнях Мальдорора» с той хладнокровной невозмутимостью, какая бывает при наваждениях, рассказывает «страшные истории». Почти все они про изуверства, которые наблюдает в своих странствиях по городам и весям, а чаще чинит демонический скиталец Мальдорор – воплощенное исчадие преисподней, архангел-истребитель, то «печальный, как вселенная, и прекрасный, как самоубийство», а то уродливый и гадкий до омерзения. Он без конца меняет обличья, иногда человечьи, иногда взятые напрокат у какой-нибудь нечисти или вовсе ни с чем не сообразные, дабы всякий раз по-разному – чудовищнее, изощреннее, сладострастнее – сеять свое «зоревое зло» – жуть апокалипсических рассветов. Среди его «подвигов» – глумление над слабыми, заманивание простодушных в коварные ловушки, уничтожение попавших в беду и молящих о спасении, мучительства, зверские изнасилования, болезнен но-извращенные выходки, измывательства над детьми и ответные расправы их над родителями, кощунства на каждом шагу – длинная чреда преступлений из тех, что начиняли расхожую мифологию низовой культуры прошлого столетия. Лотреамон словно бы вознамерился по-своему перебрать, разогреть до белого каления и тем исчерпать опись «бродя чих» злодейств из «черного» чтива романтической поры, из готовив нечто вроде подытоживающей их выжимки – свода самых вопиющих, самых ошарашивающих. И для этого постарался изукрасить, выпятить, оживить полустертые клише со всей возможной безудержностью, широко прибегнув для этого к подспорью в виде кошмарных сновидений или, по меткому наблюдению Ж. Грака, мастерски воспользовавшись нагромождением тех устрашающе нелепых выдумок, в каких соревнуются подростки, когда в ночном сумраке общих интернатских спален наперебой «пужают» друг друга россказнями про всякие страсти-мордасти.