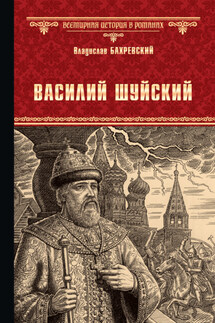Василий Шуйский, всея Руси самодержец - страница 46
Иван Васильевич, пригублявший вино, принялся опрокидывать кубки, показывая пирующим сухое дно.
Был и пляс, где всяк норовил потешить государя. Кто колесом ходил, кто лягушкой скакал… На исходе дня утомились наконец, а Иван Васильевич совсем захмелел, лег в уголку и заснул.
Тотчас и пир закончился. Лишние люди убрались, свои глядели на великого государя жалеючи.
– Никогда Иван Васильевич не спьянялся! – дивился Богдан Бельский, становясь на колени перед государем. – Господи, не дай ему постареть! Возьми от меня мою молодость, ему отдай!
Заплакал.
– Вино любого молодца с ног собьет! – недовольно сказал Годунов. – Государь сильнее любого из нас… Чем слезы лить, приготовьте доброго похмелья, чтоб поутру голова у Ивана Васильевича не трещала.
– Надо простокваши великому государю принести, – посоветовал постельник Тимофей Хлопов. – Государь проснется ночью, попьет, а утром будет здрав.
– Вон сколько сединок-то! – не унимался Богдан Бельский. – Я русый, а ты, Борис, чернявая голова, мог бы свою черноту сменять на государево серебро.
– Отступи от государя! – сказал сердито Годунов. – Поди проспись. Государю воздух надобен.
Иван Васильевич вдруг открыл глаза, посмотрел на слуг своих ясно и серьезно.
– Какие вы славные ребята! Нет вас ближе!
И заснул.
Все оцепенели. И уже не больно-то верили крепкому царскому сну, прикусили языки.
Шуйский видел все это, слышал и холодел до мурашек. Пока стан готовился ко сну, пошел на берег Оки.
Об Агии думал: пригодилась его наука, посрамил глазастых, не дал Господь Бог ударить лицом в грязь перед низкородной сволочью.
Был час благодарения ушедшему дню. Белое солнце стояло над лесом, отражаясь в реке длинной, бледно позлащенной полосою. Насупротив, над великим полем и над той же рекой, которая приходила из-под синей, густеющей с каждым мгновением дымки, стояла круглая луна. Она казалась отцветшей, не желала огорчать солнце, да впереди у нее была ночь.
Князь резко обернулся – Годунов. Бесшумней тени подошел.
– Люблю Оку, – сказал Борис Федорович и засмотрелся на реку. – А от луны дорожки нет… Не знал, что ты такой стрелок!
– Я не хотел обидеть Бельского.
– Ему наука… – пронзительно посмотрел в глаза Василию Ивановичу. – Думаешь, я о Батории весть привез?
– Не знаю.
– В Холмогорах английского гонца Сильвестра вместе с сынишкой молнией убило. Не угодно Господу, чтоб Иван Васильевич за море от нас убежал.
Шуйский молчал, но сам знал: нельзя. Выдавил из себя, как из-под жернова:
– Слава Богу!
– Какая уж тут слава! – сказал Годунов, и тоска была в его голосе неделаная. – Годика через два, через три отдаст царь топору, кого теперь возлюбил… Помнишь, я говорил: любовь у Ивана Васильевича, как заячий хвост. Никогда об этом не забывай.
– Мне на службу пора, – сказал Шуйский.
– Я ведь ныне тоже великому государю слуга. Иван Васильевич в кравчие* меня пожаловал. – И, видя, как обомлел князь, прибавил: – Ты в головах, слышал, спишь у царя.
– В головах, – ответил Василий Иванович, чувствуя, как струйками льется из-под мышек холодный пот.
Утром пировавшие с Иваном Васильевичем смотрели на него вопрошающе, но не видели в нем похмельного страдания. Одни удивлялись, другие задумывались.
В царском шатре было прибрано, все золото выставлено: царские большой и малый саадаки, кубки, братины, тарели. Иван Васильевич ждал посла австрийского императора Максимилиана.
Поглядел, как и что поставлено, и, пройдя по шатру, многое переворошил, чтоб иное, весьма драгоценное, пребывало в небрежении, будто наспех кинуто. А вот большой саадак велел поставить на самое видное место, чтоб тотчас в глаза кинулся. Шуйскому подмигнул.