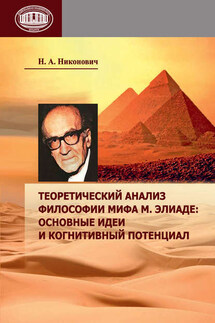Веленью Божьему, о муза, будь послушна! Книга 2. Злодейка-западня - страница 3
Всё лучшее, что мы сейчас имеем в искусстве, вся наша классика, было создано в XIX веке. Многие представители дворянства и разночинной интеллигенции очень остро ощущали всю непрочность и беспочвенность созданной ими культурной среды. Но, к сожалению, это только усиливало их просветительский радикализм. Все мощные общественные движения XIX века, начиная с декабристов и заканчивая марксистами, старались насильно втащить мужика в «светлое завтра», где, как они надеялись, все противоречия исчезнут сами собой. Проявлялась поразительная нечуткость к ходу исторического процесса, главное внимание уделялось реформе или революции. В то же время творцы художественной культуры, – особенно Пушкин, Гоголь, Лесков, Достоевский, – интуитивно передавали в своих произведениях чувство тревоги и опасения за возможное будущее России, предощущая её страшную историческую судьбу. Но современники находили в их книгах либо эстетическое удовлетворение, либо призывы к изменению существующего строя. Русская литература, по сути своей, была пророческой. Высшая управленческая элита империи всех опасалась и никому не доверяла. Глава русского народа милостью Божией всё больше превращался в управляющего бюрократической системой. Дворянство и интеллигенция открыто презирали самодержавие, народ уже очень мало на него надеялся. Но ещё более тяжёлая ноша выпала на долю осмеянной «просвещением» Церкви. Официально поддерживаемая государством, она больше страдала, чем выигрывала от этой поддержки.
Значительная часть революционеров – от Чернышевского до Сталина – получила начальное духовное образование. Знатные прихожане, формально исполняющие обряды и открыто смеющиеся над самыми священными таинствами… Всё это способно вызвать скорее жалость или возмущение, чем почтение.
Если оценивать не число атеистов, а твёрдость убеждений, XIX век был куда более безбожен, чем XX. Разумеется, подлинно церковная жизнь не прерывалась, она только шла сокровенно, готовясь к грядущим тяжёлым испытаниям. Оптина пустынь оказалась не только центром возрождения древнерусского духовенства, но и крупнейшей издательской базой святоотеческой литературы. Совсем не случайно первая половина века стала временем явления в России такого столпа веры, как преподобный Серафим Саровский. И так же не случайно, что вся «просвещённая» Россия от Сперанского до Пушкина его не заметила. Точно так же незамеченной широкой пореформенной общественностью осталась деятельность святителя Игнатия (Брянчанинова), а затем Иоанна Кронштадтского. И всё-таки девятнадцатое столетие значит для России очень много. Люди этого века оставили нам в наследство не силу, богатство или даже мудрость, а самих себя. Во всей российской истории не было времени, настолько богатого личностями.
Каждый из этих людей сам по себе – целая вселенная. В каждом можно увидеть моменты прошлого, настоящего и будущего страны. Перед Россией встал в начале XIX века вопрос, который начал принимать всё большую остроту. Этот вопрос вновь и вновь возвращался – и возвращается. Вопрос жёсткий и неотвратимый: что делать, чтобы всем было хорошо жить, в полном согласии и справедливости, без драк и войн. И Чернышевский был отнюдь не первым, кто поставил этот вопрос. И он даже дал на него свой ответ.