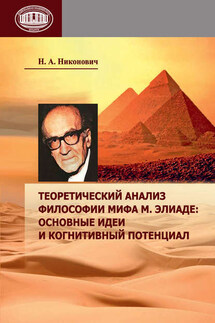Веленью Божьему, о муза, будь послушна! Книга 2. Злодейка-западня - страница 4
Но история этого вопроса очень длинная. Можно сказать, вечная. Поскольку, как только между людьми появлялось удручающее понимание того, что они не равны и одни из них живут лучше, чем другие, люди тут же начинали спрашивать: а почему так, а не иначе? Мы же все равны перед Богом, или, выходит, мы не равны? Но так не должно быть. Это неверно. И принимались искать ответ. И до сих пор ищут. Этот вопрос всечеловеческий. И он не решён и по сей день.
Рис. 1. Серафим кормит медведя. Фрагмент литографии «Путь в Саров», 1903
Вопрос этот не мог не прийти к нам, поскольку стремление к справедливости и равенству будет присутствовать в человеке всегда. И были попытки найти способ наилучшей самоорганизации людей в общество, отвечающее своей сутью духовным и материальным запросам каждого. Пытались найти ответ, можно сказать, лучшие из умов: философы века Просвещения, социалисты-утописты от Томазо Кампанеллы и Гракха Бабёфа до Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Они пришли со своими предложениями, иногда очень наивными и оригинальными. С тем и вошли в историю, благодаря этому имена их и известны.
Вопрос «Что делать?» появляется тогда, когда безмятежный покой покидает страну. Тогда противоречия во всём обществе – от сапожников до дворян – приобретают особую остроту. Спрашивают: «Куда же нам всем идти и что всем нам делать далее? Как нам всем вместе жить, чтобы не умереть и не исчезнуть?»
Вот девятнадцатый век и был для России этим самым временем. Что делать? Писатели и философы, политики и даже сам царь пытались дать свой ответ.
А художник? Он разве мог оставаться в стороне? Самые смелые брали в руки кисть, чтобы своими средствами живописи ответить на тот же вопрос. Вот как, например, Михаил Васильевич Нестеров.
Это его мысли о России отражены в картине «На Руси (Душа народа)». Закончена картина была в разгар Первой мировой войны и отразила тревогу художника за судьбу Родины. Нестеров пытается ответить на вопросы: «Кто мы? Откуда мы? Куда идём?» Художник показывает Россию во всей её духовной и интеллектуальной мощи. На правом плане обращает на себя внимание «Христова невеста» с горящей свечой в руке. На левом плане картины, в группе женщин в белых холщовых одеждах – «Христа ради юродивый», человек, добровольно принимающий облик умалишённого, чтобы жить по закону правды.
На картине «На Руси. Душа народа» вместе с народом идут христианские писатели и мыслители Достоевский, Толстой, Владимир Соловьёв. Нестеров особенно почитал Достоевского. За фигурой писателя он поместил его героя – «русского инока» Алёшу Карамазова. В Толстом он видел прежде всего мастера слова, но иронически относился к его христианским мудрствованиям. «Христианство» для этого, в сущности, нигилиста, «озорника мысли» есть несравненная тема.
Толстой помещён стоящим вне общей группы и как бы находящимся в сомнении, стоит ли присоединяться. Он уже отлучён от Церкви. Собравшиеся люди движутся вдоль берега Волги. Нестеров избирает эту реку фоном картины, помня о том, какую великую роль Волга играла в истории России. Перед толпой, намного опередив её, идёт мальчик в крестьянском платье, с котомкой за плечами и с расписным туеском в руке. Это смысловой центр картины. Художник хотел сказать словами Евангелия: «Не войдёте в Царство Небесное, пока не будете как дети». «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небелёной ткани: иначе вновь пришитое отдерёт от старого, и дыра будет ещё хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвёт мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые» (Мк. 2:21, 22).