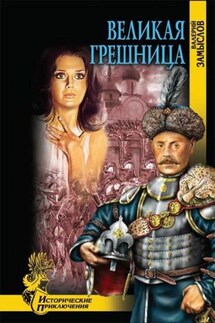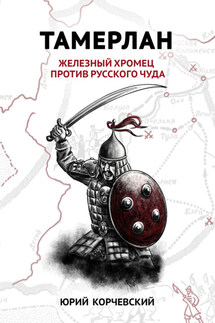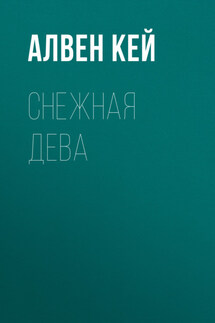Великая грешница - страница 9
Утром за княгиней заехала молодая боярыня Агриппина Ильинична Вяземская. Уж куда знатная боярыня! Некогда брат ее, князь Афанасий Вяземский, был любимым опричником Ивана Грозного. Царь только из его рук принимал снадобья, кои готовил царский лекарь, и только ему доверял свои тайные планы. А когда Иван Васильевич вздумал обратить дворец в Александровой слободе в обитель, то назвал себя «игуменом», а Вяземского «келарем». Страшное это было время.
Отец Марии, Федор Иванович, потихоньку рассказывал: «Никак дьявол вселился в государя, реки крови в слободе пролил. Малюта Скуратов, Василий Грязной да Афанасий Вяземский – ему пособники».
Однако и сам Вяземский не уцелел. После новгородского разгрома, он вкупе с Федором Басмановым и многими боярами и дьяками был изобличен в том, что вел переговоры с новгородским архиепископом Пименом, замышляя предать Новгород и Псков Литве, царя Иоанна извести, а на государство посадить двоюродного брата царя, князя Владимира Андреевича Старицкого. Обличителем Вяземского явился облагодетельствованный им боярский сын Федор Ловчиков, кой донес на князя, что он предуведомил новгородцев о гневе царском. Вяземский умер во время жестоких пыток на дыбе. Все сродники казненного князя угодили в опалу. Вернув Вяземских на Москву, Борис Годунов возвратил им вотчины и именья. Агриппина Вяземская оказалась среди боярынь царевны Ксении.
Мария Федоровна была наслышана о княгине, но никогда с ней не встречалась. Какова-то боярыня натурой? Не кичлива ли, не взыграет ли в ней гордыня?
Но первые же слова Вяземской развеяли неспокойные мысли Марии Пожарской.
– В добром ли здравии, Мария Федоровна? За тобой припожаловала, голубушка. Денек-то какой ныне лучезарный.
Голос у боярыни сердечный и ласковый. Лицо открытое, улыбчивое.
– В добром здравии, Прасковья Ильинична. А денек и в самом деле погожий.
Уселись в колымагу и направились к Красной площади. Затем нарядная карета, миновав верхние торговые ряды, проехала через Фроловские ворота и выбралась на узкую Спасскую улицу Кремля.
Ехали, разговаривали о том, о сем, сидя на атласных тюфяках и слегка отодвинув камчатые персидские занавеси, посматривали на проплывающие мимо стены Вознесенского монастыря, подворья Новодевичьего, Кириллова монастырей, Крутицких митрополитов и высокий тын двора опального боярина Федора Шереметева.
– О Господи, истомилась никак в изгнании Домна Власьевна. Храни ее Бог, – сердобольно произнесла Вяземская.
Мария Федоровна промолчала. А колымага тем временем выехала на Ивановскую, а затем и на Соборную площадь. Остановилась карета перед царицыной половиной государева дворца. И как только боярыни вышли из колымаги, сенные девушки тотчас прикрыли их от «людского сглазу» атласным занавесями, пока те не скрылись за золочеными дверями дворца.
Ну, с Богом, верховая боярыня!
Вот уже две седмицы миновало, как Мария Федоровна жительствует на женской половине государева дворца, о чем и не мечтала. Постельные хоромы царицы и государевых детей были совершенно недоступны для всех, за исключением только боярынь и других знатных женщин, пользовавшихся правом приезда к царице. На половину государыни не осмеливались входить без особого приглашения даже и ближние бояре. Для священников, кои служили в верховых церквах, открывался вход в эти церкви в известное только время и притом по известным местам и переходам, что распространялось даже на крестовых попов, кои совершали службы в самых покоях государыни. Они были должны входить во дворец только тогда, «как их спросят». В покои царицыной половины не смели входить даже и те из придворных чинов и служителей, кои по своим должностям должны были являться туда, например, с докладом о кушанье или с самим кушаньем. Далее сеней они не осмеливались входить и здесь передавали доклады верховым боярыням и другим придворным женщинам. Если даже государь посылал кого-либо к царице и к детям спросить о здоровье или «для какого иного дела», то и в таком случае посланные «обсылались через боярынь».