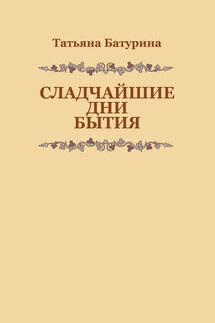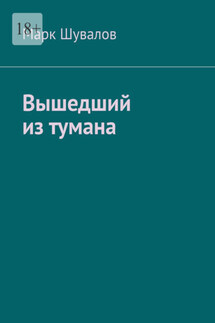Вериги любви - страница 15
Да, мы и сами не заметили, как выучились старой русской науке – соборности, учительница-то у нас православная. А она, в подтверждение, продолжала:
– Вы жили в православных семьях, и Бог вам всегда помогал. Сейчас идет война, война за Православие, за русскую землю – за нее веками воевали. Мой внук сейчас в Чечне, вот представьте себе, что должна я чувствовать? Это и есть война против нас. Значит, мы должны помогать нашей церкви, нашему Православию, защищать его, не допустить чужих: не нужны они нам.
Вокруг кресла Татьяны Кирилловны, в котором она проводит теперь свои дни, кипит жизнь, вполне совпадающая со скоростью жития престарелой учительницы: и эта окружающая жизнь, и сама Татьяна Кирилловна, внешне неподвижные, одолевают житейское пространство с неизбывной скоростью разума. Эта жизнь – книги. Иногда учительница выбирает из кучи старых историй самую, наверное, древнюю и, словно слепая, проводит пальцами по обложке, по склеенным патиной времени строкам. Что-то вспоминает, о чем-то рассказывает. Я почти не слушаю: какая разница, о чем? Главное – Татьяна Кирилловна возвращает всему свои имена, забытые или кем-то своенравно сведенные в нети… Что смертельно, ибо все в мире наделено именами, чтобы существовать.
Она подарила мне крошечную книгу-брошюру о языке. Я глянула: год издания 1950-й, инвентарный номер 2077, из фондов семилетней школы № 56 Кировского района Сталинграда.
– А я и не знала, что наша школа раньше семилетней была! – воскликнула я и продолжала изучение книги: автор И. В. Сталин, название – «Относительно марксизма в языкознании».
– Грех, конечно, но книгу я в библиотеку школьную не вернула, заменила какой-то другой… Этим я ее сохранила, ты понимаешь, девочка?
Я понимала, что теперь мысли Сталина будут храниться у меня. Наугад пролистываю и на девятой странице впригляд читаю: «Сфера действия языка… почти безгранична…» Думаю: если бы вождь был лингвистом, он обошелся бы без слова «почти». Или нет? Видимо, спрашиваю вслух, ибо слышу:
– А ты про себя разумей, а другие свой ответ дадут Господу.
Вот такая у нее скорость разума, у моей первой учительницы Татьяны Кирилловны.
В нашей слободке только Могилевские считались богатыми. Отец отличницы Тани, полковник, привез из Германии невиданные вещи. Дивом дивным был длинный, многостворчатый, во всю стену одежный шкаф. Когда девчонки приходили в гости, Таня растворяла блестящие дверцы, и возникали сокровища: цветастое постельное белье, шелковые кружевные комбинации, тяжелые бархатные халаты, туфли на высоких каблуках и главное – сказочной красоты платья. Мать Тани, тетя Тамара, наряды таила, не надевала – может, стыдилась своего богатства перед чужой бедностью?
Еще у Могилевских был патефон с заграничными пластинками. Мы устраивали возле него танцы в этих богатых взрослых одеждах, путаясь в длинных подолах и вихляясь на долгих каблуках. Как же мне нравилось синее бархатное платье! Уж я подвязывала его шнурками от ботинок, уж я заворачивала-затыкала подол за кожаный полковничий ремень! Вида, конечно, никакого и радости – тоже.
– Давай подрубим, – предлагала я Тане, – ну совсем на немножко, никто и не заметит.
Таня ни в какую, даже пускать меня в дом стала бояться. Однажды она зазевалась, я потихоньку взяла портняжьи ножницы и распорола платье с середины до низу по шву: ума, видать, хватило не кромсать дорогой подол поперек ткани. Событие развивалось стремительно: открылась дверь, и вошла мать Тани. Ее взору предстала ужасная картина: на полу комнаты коврами лежат простыни и пододеяльники, нутро шкафа вывернуто наизнанку, на девчонках топорщится и длится шелковье да бархат, и над всем этим богатством занесены огромные ножницы. «Все, конец!» – наверное, подумала хозяйка, прежде чем зайтись в кромешном крике. Я поняла, что пропала: гнева своей матери (а в том, что он воспоследует, не сомневалась) боялась пуще всего на свете. «Если что – сбегу», – решила, заходя в родимую калитку. Мама уже все знала, но от моих жалобных объяснений отмахнулась: