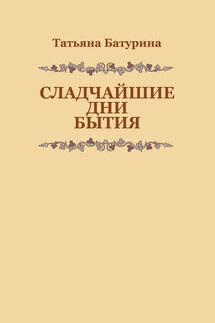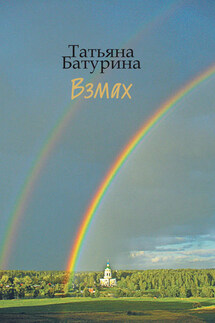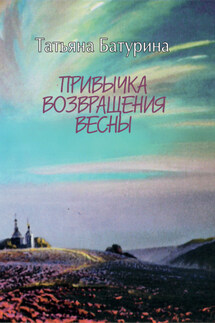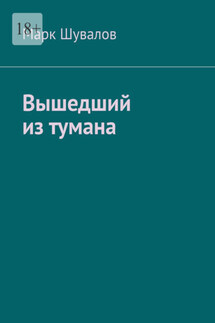Вериги любви - страница 18
– Кто там живет? – спрашивала я отца, когда мы проезжали мимо на городском автобусе.
– Сторож, наверное, – отвечал он. Мама тоже не знала, и никто не знал, и это всеобщее незнание только добавляло дому сказочной притягательности, а моей душе – любопытства и нетерпения исследователя загадочных явлений жизни.
Прошло полвека, и однажды мокрой зеленой весной я вышла из телевизионной съемочной машины напротив старинного дома и направилась по влажной тропинке к калитке. Мне долго не открывали, хотя крайнее окно светилось неярким, словно бы матовым, огнем. Потом все-таки на крыльцо вышла женщина – на удивление, не старая, а мне так хотелось встречи с допотопной хранительницей невероятно прекрасной тайны дома!
Беседовали тут же, на крыльце, потом прошли в сад, но он был таким запущенным, таким непролазным из-за разросшихся малиновых и смородиновых кустов, что я пожалела свои чулки, и тогда мы и вовсе вышли за калитку, где властвовала сирень.
– Я здесь не хозяйка, – говорила женщина, – комнату снимаю.
– А чей же дом? Давно меня этот вопрос занимает…
– А вы что, фотографировать будете? – вроде даже испугалась собеседница.
– Да нет… Хотя, знаете, если интересная история у дома…
– Хозяева-то давно то ли померли, то ли переехали, их и не помнит уже никто.
– А у кого же вы комнату снимаете?
– У чечен, они этот дом купили. Да вам-то зачем?
Теперь-то уж точно незачем… Надо же, как я опоздала! Получается, что люди пришлые не просто дом купили, а кусочек моего неузнанного прошлого, моей неразгаданной тайны, которую хранил для меня старый русский дом при дороге на самом краю Лапшинского сада. И так больно вдруг сделалось душе, хоть плачь!..
2004
Житне-Горы
Фотографию, ту – старую, с дождинками-градинками-трещинками по полю, с уголком оторванным – я часто вспоминаю. На ней – моя житне-горская родня. И те, кто умер, и те, кто, слава Богу, живы.
Где она, эта фотография? Не ведаю. А в помяннике записаны самые близкие – двоюродные и троюродные. Прямых родственников уже не осталось, роднимся с теми, кто подальше. Таких дальних – полсела, а и ближних с три десятка наберется: тетя Люба с дочерьми Таней и Олей, сестра Нина с мужем-инвалидом Леонидом, Наташа с сыном Русланчиком, Валя со Степой и Лариса с Мишей, потом Неонила, еще Валя, Тоня, Надежда, Александр, Петр, Мария, Сергей с Василием, Ольга с Марией, Людмила, Наталия, Анна, Иван, Алла, еще Нина, еще Надежда, даже Лада…
Их-то фотографии у меня есть, а вот стариков, которые на том давнем снимке только и остались, я почти не помню. Да что там: некоторые умерли еще до моего рождения, только имена их и знаю, но тоже с запинкой, нетвердо: деды, бабы, дядья и тети двоюродные и троюродные Екатерина, Иван, Алексей, Павел, Андрей, Василий, Анастасия, Татьяна, Харлампий, Андрей, Николай, Петр, Александр, Ольга, Виталий, Иван, Харитина, Екатерина, Ольга, Андрей и те, кто до них был, и те, кто жил после, почему-то не учтенные родовой памятью.
На ту самую фотографию, наверное, многие попали. Хранилась она в дедовой соломенно-глиняной хате, висела в горнице. Там в красном углу иконки высились на полке под рушником, про одного святого я знала, что это Угодник Божий Мыкола, так дед говорил. Еще стояла кровать, старая, деревянная, с травяными матрацем и подушками: пахло, как на лугу. Вдоль стен лавки возвышались, широкие, некрашеные, а по верху стены, по всем четырем сторонам света, висели фотографии.