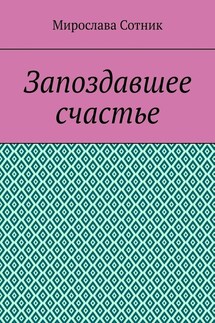Владимир Высоцкий. Жизнь после смерти - страница 80
З. Славина: «…спасителем стал Анатолий Эфрос. Он знал, что со мной произошло. Он понимал, что как актрису меня спасет только сцена. Только работа. Он вызвал меня и приказал тоном, не терпящим возражений, сделать пусть крошечный, но все же шажок к жизни, к свету софитов. Он верил в меня. И помог, когда дал роль горьковской Василисы в спектакле «На дне». Все силы, все эмоции стали работать на роль. С помощью режиссера я сумела выплеснуть злость и обиды на сцене. Я снова почувствовала свою актерскую силу, принадлежность к театру, поняла, что по-прежнему нужна зрителю».
Те, кто осуждал невозвращение Любимова, говорили: «Любимов, избалованный славой, уставший от старой «Таганки» и ободряемый молодой женой, спровоцировал скандал с властью, чтобы остаться в эмиграции. Теперь его с радостью забросают контрактами. О себе подумал, а своих учеников предал. Эфрос, тоже гонимый начальниками, загнан в угол: его заставили принять театр. Теперь ситуация уравновесилась – лучшего спасителя и придумать нельзя. Эфрос ставил на «Таганке» Чехова, он работал с Высоцким, он любит их спектакли – как повезло актерам. Правда, два-три человека бунтуют, но это они зря…»
Вхождение А. Эфроса в коллектив, который надеялся на возвращение Учителя, был сложным и мучительным. Коллектив отторгал казавшееся ему инородным… Эфрос приходил на репетиции в чужой театр, полный недоброжелательности. Уже на первой встрече нового главного режиссера с коллективом театра В. Смехов произнес: «Есть Моцарт, а есть Сальери. Есть Пушкин, а есть Дантес. Есть Христос, а есть – Иуда». Неприязнь к назначенному руководителю со стороны некоторой части труппы приняла физический характер: прокалывали шины его автомобиля, писали на его дубленке – «жид». Эфрос терпел, старался резко отделить жизнь от искусства, старался быть целиком погруженным в репетиции, в дела театра.
А. Эфрос (из записных книжек): «Самая суть общего разговора с актерами «Таганки» в надежде на понимание. Разговор может быть только один: какое найти продолжение вашему театру. Какое развитие может иметь ваше искусство. У меня по этому поводу только разрозненные мысли, так как все произошло слишком внезапно. Вопрос в том, чтобы не дать коллективу умереть. Нельзя дать умереть культуре и живым людям, если они художники.
Вот актеры – борцы за честь и свободу Театра на Таганке. Испытываю к ним уважение, хотя некоторые из них считают меня своим обидчиком. Чем я их обидел? Тем, что предлагал работать? Проходит десять дней. И вот один такой борец является с сообщением, что снимается в пятнадцатисерийном фильме о Ленине и поэтому может остаться в театре только как при Любимове, только на «разовых», что это никак не демонстрация в мой адрес, что и Любимов с ним чуть не дрался, так как не мог его заставить репетировать и играть.
Приходит второй, совершенно пьяный, приносит свой график съемок в кино. На следующий день, уже на репетиции, он тоже в нетрезвом состоянии. При этом говорит, что очень уважает меня и хочет, чтобы в театре наладилась новая жизнь. Он так мешает своим поведением репетиции, что мне приходится раньше времени ее кончить.
Третий заходит поздно вечером в комнату, где я работаю, и произносит часовой монолог, в котором нет ни одной паузы, так что я не пытаюсь что-то свое вставить. О чем монолог? Обо всем. О жизни, об искусстве, о Любимове. Все это, однако, тоже сводится к тому, что он всегда был свободный человек, убегал почти от всех театральных работ, чтобы сниматься в кино. Сейчас у него какая-то поездка за границу на съемки. Он, в принципе, тоже за новую жизнь в театре, просто такая просьба ко мне – оставить его свободным. Признался он и в том, что немножечко выпил.