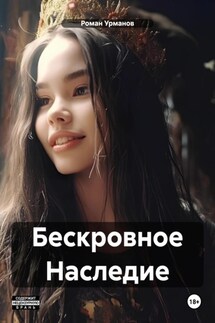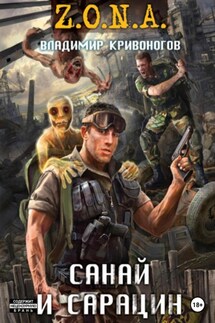Внучка берендеева. Летняя практика - страница 9
Тогда б весь терем до досочки перебрали бы…
- Кошка? – отец хмурится. – Понятия не имею.
- Сбежала, наверное, - дернула плечом Маленка. И Любляна добавила.
- Стара уж была. Время ей пришло подыхать, вот и ушла из дому… с кошками оно всегда так.
- А с курами что?
- С курами? – светлые бровки вверх взметнулись. И на лице такое недоумение искреннее, что невольно стыд берет за глупые вопросы свои. – А что с курами? Нестись перестали?
- Все черные куда-то делись.
- Да? – и ротик приоткрылся.
Хороша Любляна. В матушку пошла, хрупкою воздушной красотой. И не даром женихов она с малых лет перебирает…
- Что с матушкой? – он отложил вилку, понимая, что не полезет кусок в рот.
- Так болеет, - равнодушно ответила Маленка. – Давно болеет…
- Чем?
- Я откуда знаю? Болезнью.
Отец смотрит пристально и губу жует. И глаза… чужие глаза. Незнакомые.
- Я навестить ее хотел бы…
- Навестишь.
- Сегодня.
- Конечно, сегодня… - и тише добавил. – Чего тянуть-то?
…память.
Не только запахи ее рушат, но и звуки. Тихий скрип половиц, будто идет кто-то. Вздох за спиной, такой муки преисполненный, что поневоле становится страшно. Обмирает сердце. И вновь колотится о ребра. Чего бояться?
Вот он, дом родной.
Здесь Илья на свет появился, здесь вырос. Каждый закоулок ему знаком.
И что не по себе… а просто окна позакрывали. Дует им. Или от солнечного света сторонятся? Нехорошая мыслишка. Подлая. Из дому уйти, как Малушка советовала. Да прямо в царский терем. Сказать… пусть разбираются.
Пусть…
- От солнца мигрени у них, - отец нес в руке железную рогатину с парой восковых свечей. Света мало, а… душно. Так душно, что каждый вдох, что через меховую рогожу. – Боюсь, как бы следом за матушкой твоей не расхворались. Говорил я ей, нечего привечать всяких тут… а тут то нищие, то убогие… то норманны… им в нашем дворе делать нечего. Вот думаю, может, отравили?
И сказано это было… равнодушно?
Раньше, случись матушке прихворнуть, отец от ее постели не отходил. Всех целителей, какие только в городе были, созывал.
Вниз ведет.
- Что…
- Там она, в лаборатории, - отец остановился, Илью вперед пропуская. Боится, что сбежит? – И не смотри на меня так. Зараза эта… сначала-то я целителей приглашал… а что один, что другой, что третий… руками разводят. Нет на ней ни проклятья, ни хворей не видать, а она все равно тает день ото дня… и давно бы отошла… свет дневной ей ярок. А каждый звук муку доставляет. Ты вот на сестер ныне криво смотрел. А они каждый день жизненной силой своей с матушкой делятся… да…
- А я?
Если все и вправду так, что ж молчали?
Что таились?
- А ты… ты мужчина, Илья.
И это прозвучало почти обвинением.
А лестница меж тем закончилась, уперлась в дверь дубовую, коваными полосами перекрещенную. Висит та дверь на петлях массивных. И замком заперта таким, который сходу не откроешь.
- Ты ее под замком держишь?!
- Погоди. Сейчас сам увидишь… - отец протянул ключ. – Я был бы рад выпустить, да…
…память.
Лед.
И острый смрад гнилого тела. Темень, которую едва-едва разгоняют свечи. Существо, запертое в клетке. Прутья толсты, но существо трясет их с нечеловеческою силой, и воет, и скулит. А после замирает вдруг и ласково, матушкиным голосом, просит:
- Спаси меня, Ильюшечка… спаси…
И лицо искаженное, прижимается к решетке, прутья в самые щеки впиваются. А глаза – не глаза, провалы черным черны…
- Спаси, Ильюшечка…
Память.
Запах дыма. Кисти в склянке. Резец. И узкий нож с кривым клинком, который вспарывает кожу на запястье. Кровь льется, и существо – думать о ней, как о матери, у Ильи не выходит – замирает. Оно то вздыхает, то приплясывает, то пускает слюни.