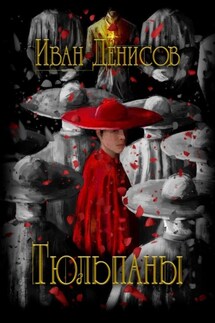Волконский и Смерть - страница 31
Он отбросил от себя недописанные бумаги. Вся вечность мира – в его распоряжении. Пока еще часы отмеряют ее перезвоном курантов на Петропавловском соборе, а скоро и этого не станет… Князь уже знает, чем все закончится. Прилетят стальные стрекозы с острыми, как лезвия, крыльями, по его душу, как прилетали давеча, недели две тому назад, как еще раньше одолевали его в Вильне, когда он, оправившись от болезни, чуть было не сжегшей его за несколько дней, слушал погребальный звон многочисленных костелов поутру и воображал, дремля в зыбком остаточном жару, будто отпевать сейчас будут его – и в святом Яне, и в Кафедре, и в святом Казимире… А еще раньше было детство, была та земляничная поляна, по которой он полз, окровавленный, боясь, что те, которые увели сестру к старой купальне, почувствуют, как пахнет эта кровь, налетят на него и добьют. И тогда в воздухе вились эти стрекозы, и крылья их бились в разреженном жарком воздухе июльского полудня. Но покамест сии призрачные насекомые оставляли Сержа в покое, и он, посидев на койке с закрытыми глазами, опять отправился к столу и возобновил работу над выданным ему опросником.
IV. Кристоф
Окно выходило в парк, прихваченный инеем. Голые ветки лавров тянулись к сумрачному небу раннего утра. Граф фон Ливен, посланник Петербурга при дворе короля Георга IV, не спал – тупая боль в голове, не проходившая и после испытанных им средств, даже после раствора опиума, мешала ему уснуть сном праведника. Поэтому он лишь спокойно стоял и созерцал эту зыбкую зимнюю красоту. Затем вздохнул, подошел к столу, на котором лежали несколько листов бумаг – веленевая, заполненная косоватым почерком его старшего сына, находившегося нынче в Петербурге, под рукой у графа Нессельрода, и другая – список со списка, депеша посла Сент-Джемского двора в Петербурге, изложенная летящей и резкой рукой графини Доротеи, его супруги и помощницы. Было и другое письмо, в розоватом конверте, доставленное вчерашним курьером в дипломатической сумке. Надо было сразу, не задумываясь, бросить его в камин или порезать на мелкие части. Но нет, он слаб, и всегда был таковым. Никуда не денется от той, которую прогнал от себя же два года назад. C’est de la douleur, n’importe comment tu l’appeles. Là ou il y a de la douleur, il n’y a pas de place pour l’amour. («Это боль, и неважно, как она называется. Там, где есть боль, любовь неуместна»). Его слова, и нынче они звучат в висках, в унисон с пульсом и с мигренью, которую она, авторша этого неоткрытого послания, заслужившего аутодафе, быстро умела снимать, и не лекарствами причем. На жестокие слова, заставившие плакать любую другую фемину, у нее, Принцессы Мудрости, был один ответ: усмешка и вкрадчивое: «Но ты же, солнце, сам этого хотел?» И тут уже графу Ливену спорить с ней было невозможно. Да, хотел. Да, предался. Да, полюбил ее – несмотря на боль, а, скорее, из-за нее. Потому что именно она, Sophie, эту боль, накопившуюся у него в теле за пятьдесят лет его жития, умеет снимать. И, если так будет продолжаться, то он не удержится, и призовет ее опять к себе.
Чтобы отвлечься и не искушаться подобными мыслями, граф Кристоф зажег короткую трубку. Пряный и жесткий дым табака немедленно заполнил гортань и легкие и, если не унял мигрень, то подарил ясность, легкость в теле. Можно было работать.
Итак, Поль описывал происшествие при переприсяге. «Mon cher papa, спешу доложить Вам, что я стал очевидцем настоящей революции», – начинал он письмо, пожалуй, слишком восторженно. – «Признаться Вам, я не думал, что на моей памяти мне доведется стать свидетелем столь значительных для нас событий, и, откровенно признаюсь, что завидовал Вам – когда я был еще неразумным младенцем в пеленках, Вы испытали и видели все, что войдет в анналы новейшей истории…»