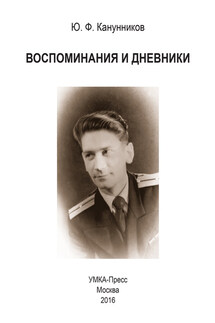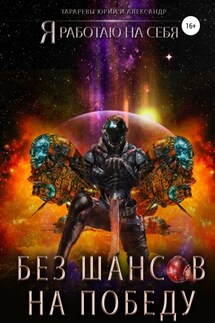Воспоминания и дневники. Дополнения к семейной хронике - страница 20
С конца 1941 по лето 1942 г. он служил в медсанбате ПП № 52447 Г, с лета 1942 по лето 1943 старшим лаборантом 116 патолого-анатомической лаборатории при армейском госпитале 56 армии.
31.08.43 за безукоризненное выполнение своих обязанностей под о6стрелом, проявленное мужество награжден именным оружием – пистолетом ТТ 1939 № 698.
С лета 1943 по 1.01.44 был заведующим лабораторией Армейского госпиталя легкораненных той же армии.
С 4.05.44 по 6.01.45 гг. – нач. лаборатории Эвакогоспиталя № 3196. 28.09.1944 г. награжден медалью «За оборону Кавказа».
В феврале 1945 г. уже в Польше при невыясненных обстоятельствах был ранен и попал сперва в медсанбат, затем в эвакогоспиталь.
В составе сортировочного эвакогоспиталя № 3127 был эвакуирован в г. Уфу. В Уфе жила вдова брата Михаила Софья, которая посещала отца несколько раз, о чем известила мою маму.
18.03.1945 Федор Федорович умер. В медицинском заключении сказано «от брюшного тифа» (при вскрытии нашли бруцеллез и цирроз печени).
Похоронен в гробу, в индивидуальной могиле в госпитальной части Саргаевского кладбища в Уфе. На могиле поставлен обелиск с именем и сделана деревянная ограда (из 500 р., оставленных Софье, о чем она написала маме).
Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что отец не был счастлив в своей семье. К своим родственникам очень тяготел, конечно же, под влиянием воспитания и ощущений безоблачного детства и юности.
С моей матерью познакомился в юности в годы учения, была определенная компания гимназисток и реалистов. Сужу по впечатлениям детства и воспоминаниям близких знакомых. Затем была вой на и революции, после чего родители встретились вне своих семей и заключили союз.
Строго говоря, отец пошел в примаки в чужую семью, где верховодила бабушка Агриппина – всем владела и всеми управляла.
К моменту моего рождения других детей бабушки уже но было. Старший сын Василий пропал без вести в 1918 году, средняя дочь Татьяна умерла от тифа в 1921 г.
Бабушка зятем была недовольна. Часто попрекала низким заработком, леностью, неспособностью хорошо обеспечить семью. Отпускала замечания нелестного характера в адрес родственников отца. В частности, именно от бабушки я, будучи еще ребенком, слышал фразу: – «Канунниковы примазались к Самарскому знамени…»
Допускала такие такие выражения, как «лапотники» и «голодранцы», особо ее возмущало дворянство, полученное Федором Васильевичем. Сама же гордилась своим купеческим происхождением (ее отец Павел Маслов был в Бугуруслане купцом первой гильдии). Ее оба мужа также были торгового сословия, жили состоятельно и обеспеченно. Ее дети Василий, Татьяна и Елизавета учились в гимназии не на казенный счет, это характерный факт.
Подобная атмосфера отца угнетала, и он скорее избегал семьи, чем стремился в нее. Пожалуй, этим следует объяснить его склонность к рыбалке и к театральной самодеятельности во все времена.
По натуре же человек он был добродушный, с хорошим чувством юмора, более того, имел дар веселить окружающих, был, как говорят, «душой компании», однако не был скоморохом. Чувство меры ему не изменяло.
К работе относился увлеченно и добросовестно. За что, как правило, руководство отмечало его многочисленными грамотами, адресами и положительными отзывами. Товарищи ценили его уживчивый и веселый нрав, честность и надежность.
Фактически спокойно, без треволнений и тяжкой нужды мы как семья прожили всего 3 года, лето 38 – лето 41, в Геленджике, «на курорте» (форменным образом). Все были в то время тем, чем были, без агрессивного деспотизма бабушки и уже без постоянно нависающего страха. Хотя страх в душе оставался, но окружающая доброжелательная обстановка этот страх постоянно не возобновляла.