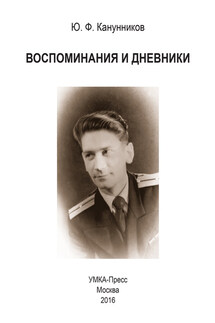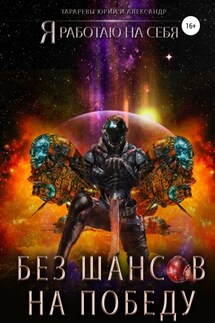Воспоминания и дневники. Дополнения к семейной хронике - страница 23
Во дворе у ворот был погреб-ледник с дровяным сараем. Двор делился пополам длинным сараем, который назывался «каретник». За сараем был «огород», а ближе к дому «сад». Огород не возделывался и весь зарос кустами лебеды, крапивы и татарника.
В саду было несколько деревьев – яблони, слива, сирень, кусты крыжовника и малины. Достопримечательностью сада было большое дерево привитой ранетки, причем на одном стволе плоды были желтые, крупные и сладкие, а на другом – мельче, с красным боком и кислинкой. Под ранетом стоял летний стол и скамья. Летом нередко под деревом устраивались вечерние чаепития, особенно когда приходили гости.
Электричество в доме появилось с поселением американцев, то есть в 1930 г. Я же помню керосиновые лампы разного размера. Самая маленькая называлась «семилинейная», а самая большая – «молния», кроме того были другие. Лампы стояли на кухне на специальной полке в углу. Полка всегда пахла керосином.
План дома и двора по ул. Пролетарской
В кухне была большая русская печка, но ее топили не каждый день, а дня через три или реже. Печь топилась обязательно, когда была стирка и перед всякими праздниками. Для повседневных надобностей применялись два примуса. Помню, что бабушка вечно воевала с примусом, а он то не горит, то пламя идет вбок.
Позже, уже в другом доме, я освоил примус. Делал сам прочищалки из струн, а позже даже сам разбирал насос, отвинчивал и чистил горелку.
Зимой наваливало массу снега. Помню, как-то с утра невозможно было открыть ни дверь из тамбура на веранду, ни калитку. Отец прочистил ход до калитки, перелез через ворота и очистил калитку и дверь на веранду с улицы. Вообще чистка снега (тротуара и во дворе ходы к сараям и уборной) была занятием постоянным. Я с самого раннего детства «участвовал» в этом мероприятии, для чего имел маленькую лопатку.
Помню, у нас – детей были деревянные салазки, одна пара лыж и один конек «снегурочка», из – за которого был вечный спор с сестрой. Конек привязывался к валенку сыромятным ремнем. Позже сестре купили пару коньков «нурмес» с креплением на ботинки, и она даже ходила на каток. Считалось, что именно на катке она простудилась до воспаления легких, которое перешло в скоротечный туберкулез. Нина умерла в начале 1929 г. На ее «нурмесах» (уже на валенках) я ездил до четвертого класса, когда мне купила мать «дутыши» под названием «чемпион-хоккей», причем на них я ездил, тоже на валенках, и на катке ГПУ, и за автомашинами на крючке.
Кататься на лыжах и санках ходили на Домашку, речушку в двух кварталах в конце улицы, которая пологой горкой спускалась к обрывистым берегам Домашки. Выбор крутизны склонов был довольно большой и постепенно осваивался по мере взросления.
Во дворе из первого снега обязательно делали снеговиков и «крепости», между которыми устраивались сражения снежками, если позволял снег.
К весне обязательным делом было набивание ледника, куда на салазках свозился снег со всего двора и даже сугробы с улицы.
В бабки играли почему-то только весной, когда сходил снег у стен. Бабки, или как мы чаще называли, козны, – это косточки овец. Большие (с палец) – назывались панки, маленькие (вполовину меньше) – собственно бабки или козобульки. В то время бабки стоили 0,5 копейки штука («на копейку – пара»).
Нижний конец и панков, и бабок имел костный шов. От высыхания и ударов нижняя часть иногда отделялась, – это был