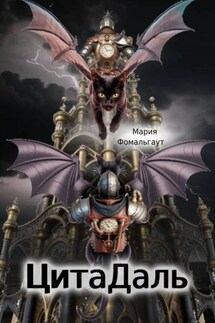Враг един. Книга третья. Слепое дитя - страница 43
Флинн всю жизнь был для неё… ну, наверное, кем-то наподобие родного брата, с которым ты не разлей вода чуть ли не с самого своего рождения и которого давным-давно уже знаешь как облупленного. Любитель витать в облаках и умничать, балагур и стихотворец, обаятельный балбес и страшно артистичный выпендрёжник…
В общем, невероятно талантливый раздолбай.
И, наверное, именно поэтому – несмотря на то, что они с Флинном были погодками, Фрейя вечно ощущала себя необъяснимо старше, ответственнее, опытнее. И даже сейчас, когда им обоим давно уже стукнуло под пятьдесят, ничего, казалось, не изменилось…
– Раньше ты вроде бы чаще писал о том, что людям в этом мире, наоборот, не хватает сострадания… – Фрейя рассеянно провела рукой по ледяному радиатору отопления за своей спиной («И вот не холодно же ему сейчас в этой норе, чёртов дьявол…»), прислушиваясь к отголоскам футбольного матча, который транслировался в баре неподалёку.
По правде говоря, она никогда особенно не любила здесь бывать. Фрейя не жаловала ни Дувр, ни вообще Англию, и, если желание Флинна время от времени пожить отдельно от соотечественников она ещё и могла отчасти разделить, то вот любовь музыканта, который запросто мог бы на всю зиму махнуть в Эмираты, на Барбадос или вовсе на Виргинские острова, к этому насквозь депрессивному городку… или желание Флинна сочинять новую музыку не где-нибудь, а именно в этом древнем домике с низкими потолками, узкими лестницами и неистребимым сырым душком из подвала – это желание объяснить было нельзя, с точки зрения Фрейи, уже вообще ничем.
– Ну и чушь я писал раньше, – отмахнулся Флинн.
– Почему чушь?
– Потому что смысл нашего существования в том, чтобы обрести себя, понимаешь, Фрейя? Обрести подлинного се-бя, – Флинн свёл перед лицом татуированные ладони, отрешённо рассматривая ободранный чёрный лак на собственных ногтях. – Избавиться от шелухи, увидеть в себе причину любой своей неприятности, взять на себя полную и безоговорочную, так сказать, ответственность за собственную жизнь. Кто ты? Какой ты? На что ты, адова сатана, вообще способен? Существует ли та грань, которую ты не в силах переступить? – мужчина с хрустом смял в кулаке опустевшую пивную банку. – Ох, ты замёрзла, наверное, да? Я сейчас закрою окно… всё время забываю, что у меня теперь, так сказать…
Не договорив, Флинн встал, метко зашвырнул банку в мусорное ведро и щёлкнул кнопкой на оконном пульте.
– А жалость, золотце моё, она… ну, она, так сказать, является слабостью в той мере, в какой она причиняет тебе боль. Испытывая жалость, ты теряешь свою жизненную энергию, – глубокомысленно продолжил он. – Жалость делает чужую боль заразной и противоречит всем тем эмоциям, которые укрепляют нашу внутреннюю силу, поэтому…
– Откуда у тебя всё это взялось? – перебила его Фрейя. – Тоже от этих твоих… новых приятелей?
Флинн прилёг рядом с женщиной на заваленный цветастыми подушками диван и положил голову ей на колени.
– А вот что ты, собственно, имеешь против моих приятелей, а… мамочка? – слегка раздражённо поинтересовался он, прикрывая глаза.
Некоторое время Фрейя смотрела на стальную гавайскую гитару в углу и молчала, бессознательно покусывая нижнюю губу.
Все эти странности с Флинном начались, насколько она помнила, около полутора месяцев назад – вскоре после того, как тот умудрился разбить где-то в Америке, в окрестностях Вермонта, свой спортивный самолёт. Сколько Фрейя ни добивалась от него потом правдивого ответа, ей так и не удалось выяснить, что именно стало тому причиной, хотя она крепко подозревала, что на самом деле музыкант просто нарушил много раз данные самому себе зароки и в очередной раз хлебнул спиртного перед полётом.