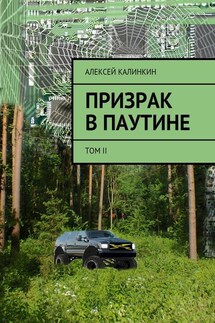Вячеслав Иванов - страница 35
Первая книга поэта вышла в Петербурге в 1903 году – через два с небольшим года после смерти Соловьева. «Кормчие Звезды» Вячеслав Иванов посвятил памяти матери. Открывалась книга стихотворением, очень характерным для него – с тем мифопоэтическим восприятием космоса, которое соткалось из «дионисийства» и тютчевских уроков «осени первоначальной»:
Другое стихотворение, одно из наиболее значимых в книге, носящее название «Красота», Вячеслав Иванов посвятил Владимиру Сергеевичу Соловьеву:
В «Красоте» отозвалась одна из любимых идей Соловьева – о Софии Божественной Премудрости. Философ воспринимал ее как Личность, как живую Сущность – воплощение Добра, Истины и Красоты. О своем мистическом опыте встречи с Софией он поведал в поэме «Три свидания», возвышенной и одновременно полной легкого и светлого юмора. Благоговению и серьезности в ней отнюдь не мешает ни восклицание бонны-немки «Володинька! Ах, очень он глюпа!», ни курьезнейший эпизод, когда, уйдя в египетскую пустыню в поисках Софии, ее верный рыцарь попал в плен к бедуинам и, принятый за дьявола из-за своего высокого черного цилиндра, чуть не был убит.
Этими чертами личности и поэзии Владимира Соловьева Вячеслав Иванов бесконечно дорожил, но сам обладал ими весьма в малой степени, особенно в ранний период. В «Кормчих Звездах» преобладал высокий торжественный настрой, слышался отзвук Пиндарова дифирамба и державинской оды. Язык многих стихотворений, входящих в эту книгу, мог показаться слишком архаическим. Частота употребления старославянской лексики у Вячеслава Иванова была очень велика. Ему и впоследствии нередко ставили это в вину. Гумилев в одной из своих рецензий писал: «Предание не говорит, слагал ли песни царь-волхв Гаспар. Но если слагал, – мне кажется, они были похожи на стихи Вячеслава Иванова. Когда ночью он ехал на разукрашенном верблюде, видя те же пески и те же звезды, когда даже путеводная, ведущая в Вифлеем звезда стала привычной, повседневной, он пел песни, странные, тягучие, по мелодии напоминающие пяти- и шестистопные ямбы, любимый размер В. Иванова…
Стиль – это человек, – а кто не знает стиля Вячеслава Иванова с его торжественными архаизмами, крутыми enjambements, подчеркнутыми аллитерациями и расстановкой слов, тщательно затмевающей общий смысл фразы? Роскошь тяжелая, одурманивающая, варварская, словно поэт не вольное дитя, а персидский царь…»[80]
А литератор и пародист А. А. Измайлов, писавший под псевдонимом «Аякс», в своей пародии на Вячеслава Иванова вложил в его уста такие слова: