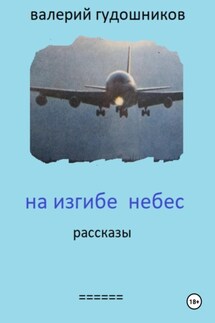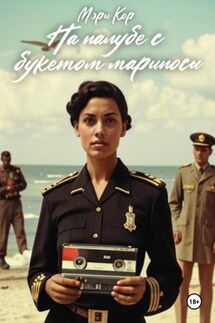Взлёт и падение. Книга вторая. Падение - страница 11
Покончив с этим хлопотливым, но весьма прибыльным делом, сделавшим новых хозяев в одночасье миллиардерами, а от народа получивших звания воров, обратили, наконец, внимание на более мелкие предприятия. Ну, эти «приватизировали» начальники районного масштаба и другие чины, лояльные губернатору. И, наконец, обратили взоры на аэропорты. А вот тут вышла неувязка. И самолёты, и аэропорты, и все строения в них оказались в федеральной собственности, хотя оттуда не субсидировались. А вот из местных бюджетов им иногда что-то перепадало. Сунулись, было, в Москву с дополнениями к договору, но больной Ельцин никого не принимал. Сменился состав почти всего совета министров, и идея эта в столице поддержки не нашла.
– Вы и без того на привилегированном положении, – сказали в президентской администрации. – У нас с другими регионами таких договоров нет, почему он должен быть с вами? Но уж, коль он есть, что ж, пользуйтесь. И… хватит его корректировать.
– Но мы же финансируем деятельность аэропортов, – не сдавались ходоки.
– Это правильно, – ответили им, – ведь авиация в регионе вам нужна, а не нам.
– То есть мы ваши аэропорты должны финансировать? Почему?
– Не хотите финансировать – закрывайте. Такое право у вас есть согласно вот этого же договора.
– Но как мы можем закрыть федеральные аэропорты, принадлежащие государству?
– А кто вам сказал, что они в ведении федеральной собственности? Таковым числится только ваш центральный бронский аэропорт первого класса. И никто его закрывать не позволит. У вас там стратегически важная более, чем четырёхкилометровая полоса. Все остальные же аэродромы других ведомств, и аэродромы местных воздушных линий всегда находились на балансе регионов.
– Значит, земля наша, и аэропорты тоже наши?
– Выходит, что так.
– Кроме центрального?
– Кроме центрального.
– Так зачем же мы их, чёрт возьми, поддерживаем в рабочем состоянии, если на многие из них уже давно не летают?
И вскоре Дунаев получил указание закрыть более 20-ти аэропортов местных воздушных линий в регионе, штаты сотрудников распустить, оборудование вывезти или продать, а землю предоставить в ведение глав местных администраций.
– Но это оборудование специальное и его никто не купит, – возражал он, на что получил ответ:
– Тогда спишите.
– Но оно дорогое и вполне работоспособное. Не легче ли всё законсервировать до лучших времён?
– А вы уверены, что они наступят?
– Не вечно же будет длиться этот бардак! У нас же только 7 классифицированных аэропортов с бетонными взлётными полосами, способные принимать самолёты днём и ночью. И всё это развалить?
– Выбирайте выражения, господин Дунаев!
Классифицированные аэропорты ему отстоять удалось, все остальные, куда когда-то, словно пчёлы, летали пассажирские самолёты Ан-2, пришлось ликвидировать. Гремевший когда-то Ак-Чубей, откуда в день вывозили 14-местные Ан-2 до 300 человек, опустел. От случая к случаю туда стали летать только санитарные самолёты. Аппаратуру вывезли, часть распродали, что-то растащили на местах. Здания передали местным властям, взлётные полосы оставили, как пастбища для скота и для посадок налетающих изредка заказных и санитарных рейсов. Аэропорты превратились просто в обычные посадочные площадки без технического и диспетчерского обслуживания, метеорологического обеспечения и радиосвязи.
Советник Дунаева, а когда-то командир ОАО Фёдор Васильевич Бобров, приложивший немало сил, чтобы открыть эти аэропорты и теперь видя, как варварски всё это растаскивается и распродаётся, ходил мрачный и неразговорчивый. Он седел буквально на глазах, хотя по прежнему выглядел стройным и импозантным. А вскоре заболел и уволился из авиакомпании.