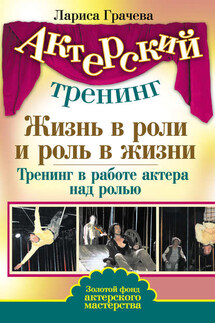Юрий Любимов. Режиссерский метод - страница 3
Существенно, что здесь был не просто сам собой разумеющийся профессионализм, при котором на уровень мастерства уже не обращаешь внимание, как любят писать критики. Нет, здесь «обращаешь».
>Добрый человек из Сезуана. Шен Те – З. Славина.
Мастерство не скрывают, его показывают, им гордятся. Что-то похожее происходит в балете, где аплодируют в том числе количеству и чистоте исполненных артистом фуэте. Или в цирке, где один из партнеров указывает зрителям на другого, как бы призывая не упустить ни одной мелочи и разделить с ним восхищение мастерством коллеги. Разумеется, здесь нет подобного прямого жеста. Но мастерство явно демонстрируется, а не подспудно существует. Это видно и в нескрываемом внимании актера к партнеру, именно как к художнику, чье мастерство постоянно открыто оценивается им и вызывает ответный азарт – желание переиграть. Суть не в декларациях. Внешне дело нередко обстоит иначе. Режиссер добивается мастерства как непосредственной реальной составляющей образа. Реальной, но далеко не единственной в сложном создании актера и в спектакле в целом. И когда исполнитель это забывает, на репетиции незамедлительно звучит режиссерское, порой резкое: «не демонстрируйте свое мастерство».
Именно высокий класс мастерства, установка на игру и одновременно склонность к самоиронии, понимание того, что без низкого не бывает высокого и без смешного – серьезного, – порождают моменты, когда «много что умеющие актеры Таганки, вместе со своим режиссером, бравируя, (…) специально придают своей игре оттенок самодеятельного, любительского исполнения» [35, 39].
Принцип открытой игры
Актеры делают отдельным объектом зрительского внимания и мастерство режиссера, ибо они не скрывают (или им не удается скрыть) творческой радости от игры в остроумной, красивой, насыщенной смыслами мизансцене. Они ее опять-таки «преподносят» зрителю. В труппе царит своеобразный культ профессионализма, художнических умений. В спектакле он является составляющей содержания. В моменты демонстрации мастерства действующим лицом становится именно актер как таковой, художник, мастер. Так получает продолжение и развитие мотив театра, мотив искусства.
В самом деле, вспомним, например, выход персонажа. Его походка – своего рода танец. На протяжении этих эксцентричных походочек-танцев, представлявших персонажей, успевали «выступить» и актеры. Это они придавали исполнению танцев красоту и легкость, открыто радовались им и увлекали артистизмом исполнения и самой радостью зрителей. Выходы персонажей становились одновременно парадом актерской виртуозности. Рядом с персонажем отчетливо возникал актер-художник. И точно так же звучащее творимое слово, музыку речи здесь именно «подавали». Спектакль был не просто красив, но еще и полон рефлексии по отношению к любому проявлению в нем красоты, художественного совершенства.
Все, о чем мы сейчас говорим, возникало и получало свой смысл в процессе непрерывно развивающегося драматического действия спектакля. В сложных драматических коллизиях во взаимодействии с другими составляющими по ходу становления целого происходило и развитие мотива театра.
Мы упомянули о своеобразии выходов персонажей. Но на его фоне становилось все заметнее сходство в рисунках «танцев»: ритм каждого из них был элементарен и механистичен. Персонажи оказывались полностью подчинены автоматически затверженной пластике, в точности воспроизводя ее, сколько бы раз ни выходили. Так, господин Шу Фу (И. Петров) продолжал следовать ей даже в момент своего любовного признания Шен Те. Жесткая предписанность движений сказывалась и в заданности траектории. Она была у всех одна: каждый вновь появившийся персонаж шел вдоль задней стены до середины сцены, поворачивался строго под прямым углом и направлялся по прямой к залу. Правила прямого угла не избежали ни боги с их смешными поворотами по команде Первого бога: «Повернулись! Пошли!», ни Ванг-водонос, ни Шен Те в сцене, где она разыгрывала пантомиму знакомства своего воображаемого сына с миром.